Рецензия на роман «Маг поневоле»
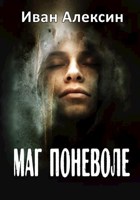
Итак, Маг поневоле Ивана Алексина…
Приступая к рецензированию, всяк рецензент отталкивается от своих читательских установок, что не только понятно, но и неминуемо. Среди моих установок есть и такая: многого не ждать от литературы с попаданцами. Не люблю я их, попаданцев – не столько за тот момент малой нелогичности, когда совершается переход (само собой, хрен знает почему), сколько за чуждость и ненужность его фигуры в чужом мире (каковой из-за этого познаётся не в своей внутренней логике, а в тупом противостоянии здешней), а ещё за следующее отсюда сюжетное однообразие.
Попаданец куда-нить попал, там он сперва уязвим и непонятлив, но потом прокачивается, адаптируется, добавляет знаний-умений-навыков крутизны из своего мира – и начинает ужо сперва понемногу, далее помногу всех нагибать от имени бремени белого человека…
Ну так вот, установка-то у меня есть, и настолько определённая, что я обычно и не читаю попаданческой литературы (чё кактус-то грызть), но всё ж допускает исключения. Вот для «Мага поневоле», ну и ещё для пары-тройки произведений на АТ я такое исключение и сделаю. Ибо имею основания ожидать, что в них состоится уход от нелюбимого мной стереотипа.
Оправдал ли «Маг» это моё исключительное ожидание? В значительной мере – да! Роман интересен и достаточно необычен (в том числе необычен и редкой авторской дотошностью и глубиной исследования ключевых явлений изучаемого мира). Мне он интересен, как всё, что сделано с глубиной и умом. (А кому-то понравится прежде всего нарастающей авантюрной остросюжетностью).
Итак, по позициям.
Название. Героецентрированное. Что для попаданческого романа специфично и предрасполагает нас ожидать повествование от первого лица (либо хотя бы линейное от одного главнейшего фокала).
Важное определение «поневоле» указывает на пассивную позицию героя, страдательность, объектность, а не субъектность. Ну и в эмоциональном отношении – выраженный минор.
Жанр – заявлено историческое фэнтези, попаданцы в иные миры, эпическое фэнтези. Я бы всё-таки определил как фэнтези попаданческое в первую голову. Пафос попаданческой литературы в более тесной и интенсивной идентификации с героем. Добивается ли её автор? – ясный перец. Герой исходно парень простой, почти незлобливый. И так ему круто достаётся тумаков судьбы да плетей всяких по любимой шкуре, – да такие качели везения - невезения
В «историческом» – сомнение. Мир-то авторский. Историко-географическая привязка не шибко проявлена. Условное средневековье, да. Но уж больно общая условность, что типично для всякого традиционного фэнтези, не токмо исторического. Не историчнее, чем Толкиен. Антураж типа славянский с германскими вкраплениями – тут и Нежданы, и Герхарды. Но не какое-нить Турово-Пинское али Полоцкое княжество.
В «эпическом» – также сомнение. Один город Вилич, один проклятый город, несколько деревенек – не эпический размах. Больно камерно.
Язык – внятный и в целом грамотный (токмо частенько бывают лажи с ться-тся, «одевание» вещей, кстати сказать, ну и опечаток чуток - Трофима как-то Трифоном обозвали, чё там ещё, не припомню)… В речи – разумный контраст между пристаренным говорением средневекового мира и современным языком героя с набором клише, с попытками хохмить, в основном самоуспокоения ради.
Возможно в первых трёх четвертях романа речь слишком уж обстоятельна, ну зато в последней уж понеслась! Правда, большая обстоятельность приходится не на самый яркий участок пути героя. Это тренировочный участок – и для героя, и для читательского въезда в бескомпромиссную логику авторского мира.
Образы. Тщательней всего описаны деревенские халупы да крестьянские нравы – вся 1-я часть приходится на провинциальную дорогу, и лишь последняя в ней глава – наконец-то магическая сталкерщина. Откуда во 2-й части уже переход к городу (та же деревня в статусе города – Вилидж с большой буквы), к городским нравам, к которым уж подготовили деревенские. Ну и сталкерские прохождения проклятого города асуров занимают более солидное место.
ГП (герой-попаданец) фигурирует под новым именем Вельд. От старой жизни только и осталось, как с Толиком квасили. Герой, стало быть, исходно мало чем примечателен, зауряден. Не особо тупой – решать головоломки в своём мире обучен, но и не гений в какой-либо области. Качество наивности, неспособности дать себе отчёт в худшем – можно отнести на счёт дезадаптации при встрече с новым миром. В дальнейшем герой успешно адаптируется, перенимает способы выживания в этом мирке. Собственно, начинает этому миру полностью соответствовать, осваивает его правила, становится мастером игры.
Исходные цели у героя примитивны – только шоб выжить, шоб не били… В дальнейшем, по мере роста сил и возможностей, мотивация становится шире: месть, практицизм (а шо, всем можно, а мне нельзя). Герой, определённо, не революционер. Он конформист - готов принять правила игры, какие дают. Карабкаться по головам, предавать – хорошо, будет освоено в лучшем виде. И удобно, что есть отмазка, ведь другие такие сволочи!
Другие – многоглавый персонаж, охватывающий всех встречных в новом мире. Общее свойство всех этих других – подлость. Подлость откровенна до бесхитростности, и тем – правдива, т.к. просчитываема заранее во всех предательских мотивах и эпизодах. Подлость варьирует по качественным и количественным показателям, часто её дефицит прямо связан с дефицитом ума и компенсируется силой. Подлость – универсальный способ выживания.
Мир
Географические рамки – дорога из пустоши через ряд деревень и развалины града асуров в княжеский город Вилич. Все локации означены специфичной проблемностью.
В деревнях – убожество, труд и подсиживание путников, страх набегов степняков, в пути – несвобода отклониться, в городе Виличе – конкуренция, жажда выгоды, страх наказания, в городе асуров – чудовища, ловушки, смертельные загадки, следы разрушений, поиск ценных артефактов.
Социальный мир, куда попал герой, откровенно подл. Предатели все, каждый за себя. Интересы каждого сводятся к личному выживанию и наживе. Тем самым общество сильно атомизировано. Беллум омнеа контра омнес – война всех против всех – вот ведущее состояние социального мира. Что до социальных организаций, то они слабы и малоэффективны в обуздании хаоса при всей своей жёсткой репрессивности. Закона в позитивном смысле нет, всяк договор действует, пока выгоден – и заведомо будет нарушен. В негативном смысле закон есть – как множество преступлений и наказаний (реализующих, строго говоря, право мести сильного). Что людей по-настоящему держит – родовые (общинные) отношения, отчасти соседские. Но этот элемент в основном деревенский, присутствует больше на дороге к эпицентру мирка – Виличу, а в нём самом уже редуцируется.
Верования – в Троих и в Лишнего. По сути, они в особом варианте воспроизводят юнговскую идею Четверицы как основы полноты духовного опыта. Христианская Троица (Отец, Сын, Св.Дух) дополняется до целостности 4-м, вытесненным элементом (им может быть разрушительное начало - дьявол, либо женское - Богородица, в попсовом варианте Дэна Брауна – Мария Магдалина). Вот и мир попадания Вельда содержит это самое архетипическое разделение 3+1. Характерно, что Троица в романе – подчёркнуто родовая (Мать, Отец, Сын), а Лишним оказывается кто – аспектированный темой мятежной деструктивности Св.Дух – творческое начало, магическая энергия.
Что характерно, у героя – две инциации: в социальном мире Троих и в проклятом городе Лишнего. Причём последняя – более настоящая, она-то и обеспечивает ему реальную возможность профессионального роста.
Сюжет. Запрягает автор нескоро. Логика закручивается вокруг героя, действующего в правилах и по правилам нового мира, сперва в рамках ограниченного сеттинга деревни, потом в рамках пути, потом – в контексте интересов социальных групп и организаций города Вилича (заинтересованные маги, жрецы-наставители, приор-вершитель, княжеская власть, бандитское подполье) в городе асуров.
Интересно, что все логические нити автор доводит до завершения, по пути их подвергая тщательному художественному исследованию. Не кто-то избирательно подлый – а весь мир такой без исключений, включая в особенности «благородного спасителя», который исключением кажется, а также «благодарного джинна», который из раба хозяина кольца запросто становится хозяином, буде тот лоханётся.
Цель героя от начала до конца всё та же – выжить, а задачи меняются: не остаться в деревне с селюками, не отстать от обоза на пути к Виличу, освободиться из плена и выбраться из ямы, успеть к сроку до репрессий, пройти проклятый город, разгадать смертельную загадку, снять проклятие, укрепить магический кристалл, освободиться от магического «помощника», найти противоядие, всех надуть в экспедиции в город асуров…
В середине 2-й части роман отходит от однолинейной модели сюжета с монопольно единственным фокалом, что оправдано с точки зрения: а) показа динамичной панорамности действия; б) рассмотрения действий героя в более широком контексте. Бегущие вскачь остросюжетные главы в интересном антураже проклятого города с его ловушками и чудовищами несколько отклоняются от исследовательского академизма. Наступает суета, но очень динамичная, с множеством боевых сцен – такой тип кульминации радует читателя, ищущего развлечений, но и в логике развития идей вполне оправданы. Множество нагибаторов и слабосильных хитрецов-выжидателей начинают махаться меж собой и с древними чудовищами, а герой? Он теперь один из них. Со своими козырями в рукаве – как и большинство.
Идеи… Мне кажется, роман экспериментальный, к чему и жанровая разновидность (попадалово) предрасполагает. Задать условие – посмотреть, что выйдет, честно описать. А слабо взять не спецназовца-нагибатора, а невыразительного героя? А слабо сделать магов изгоями? А слабо построить социальный мир из одних подлецов? Что ж, мысленный эксперимент проведен, эмпирические результаты получены. Мир идей этого романа рождается в основном индуктивным путём. Что-то о честности в процессе социального, профессионального, карьерного роста. О влиянии социума типа «с волками жить, по волчьи выть»…
