Рецензия на сборник поэзии «В тишине ноль»
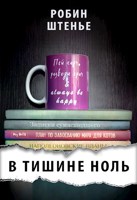
Я неожиданно для себя осознал, что рецензия на поэзию куда ближе к рецензии на картину, чем к привычной «на прозу». Проза, пусть даже в ней и не будет морали прямым текстом или резонёра, всегда более очевидна. Напротив, у автора стихотворения, как и у художника, несколько ограниченные возможности в выражении. Оба показывают цепочку образов; даже в стихотворении, сотканном подобно прозе из слов, самая суть не в строках, а где-то между — где затерян контекст, где заложены чувства автора.
Если бы не сборник Робина Штенье, то, пожалуй, столь явного прозрения не случилось бы. Причина в разнице восприятия: я мог бы в том же настроении использовать те же образы, но совершенно иначе их интерпретировать. Это, на самом деле, особенно интересно: из таких вот интерпретаций строится портрет человека. «Диалекты» прозы, сколь бы ни было стилистических вариаций и манер письма — примерно схожи между собой. А язык интерпретаций, ассоциаций у каждого свой, потому открывает истинную суть и, кстати, почти никогда не лжёт... пока не столкнёшься с «трудностями перевода» с авторского на читательский.
Технического разбора ниже не будет; он — последнее, в чём может нуждаться «В тишине ноль». И даже не та самая попытка «перевода с авторского» — потому что попытка может оказаться неверной. Только впечатление от этой попытки.
Итак, «В тишине ноль» — это очень эмоциональное действо. Боюсь, у меня самого еще от двадцатой доли этого действа «сердце выдохлось в ноль» бы.
«Ты — Ирида, вестница богов», «ты — Мнемозина, дочь моя и мать», особенно для стихотворения с посвящением — это очень откровенно. Будто бы, идя по улице, бесцеремонно встал у чужого окна и подсматриваешь что-то очень личное. Чем дальше, тем сильнее это чувство.
Иногда оно отступает. Расступаются мрачные тучи, появляется солнце, пусть и затянутое легкой дымкой. Таким глотком воздуха становится, например, переход от напряженной «Алисы» к близкому и понятному любому творцу сюжетов «За буквою слово»: «А доброму дону мечталось влюбиться. И я дал отмашку — дерзай, добрый дон».
Но анализировать-то хочется как раз непонятное, поэтому вернёмся к Алисе. Не знаю, сколь она связана с игрой American McGee’s Alice, но красной нитью проходит такое же полубезумное настроение. Клыки, нож, список людей, на которых надвигается месть героини — о, «Алису вам лучше не злить». Чёткий образ девушки сменяется размытым образом музыканта. Нам неизвестно, как связан с ней музыкант, которого просят спеть Алисе не погребальную, а колыбельную, что следует из этой связи и почему он должен спеть именно ей.
Вот и первая трудность перевода. Здесь я хочу процитировать другое стихотворение сборника, Khef:
И что ни скажи, все равно непонятно.
Знали бы они, сколько правды распято
Быть может, в этой Алисе — действительно какая-то правда, выстраданная, распятая, а читатель взял и притянул за уши Алису из игрушки? (Если что, простите читателя, для него даже Доппельгангер — не зловещий двойник, а скилл Фантом Лансера из дотки).
Несколько страниц спустя мы снова сталкиваемся с Алисой. Почему-то я уверился, что это та же самая Алиса, а не ее тезка: у предыдущей героини были клыки, эта — скалится в ночь. Неприятный образ, звериный. Человек становится зверем, будучи загнан в угол? Кто загнал ее — неведомые обидчики, семья? Нынче Алиса не спит. Видимо, музыкант из предыдущего стихотворения не справился, не спел колыбельную, и тем самым обрек героиню на бессонную вечность.
Да... говорить про некую Алису много проще, нежели про самого лирического героя. Ведь неизвестно, сколько в нем от самого автора. 50%, 99%? Он выглядит натурально израненным обществом или отдельными его представителями: «Твое доброе слово меня искалечит». Он — «как ребенок на бракоразводном процессе». Его никто не слышит, «хоть кровью пиши, хоть дерьмом», загоняя манифестировать в окоп. И, несмотря на боевой настрой, манифестируется только отчаяние с чувством безысходности.
Никто не придет. Мир бесконечно пустой. <...> Останься, где есть. Никуда не нужно идти.
В этом мире даже время не лечит, только рушит мосты. А если он (герой? автор?) и пытается что-то написать, что толку? Это всё уже было написано. «Все было до меня» начинается со светлой грустью:
Все было до меня. И что теперь?
Все мои мысли уже думал кто-то,
А заканчивается уже совсем отчаянным
Все было до меня, и я — никто
Нарисованный нам мир настолько бессмысленно-мучительный, что даже суицид в нем не принесет облегчения («Ведь если из окна сейчас уйду, То все равно мне не видать нирваны, Лишь новый ада круг и дежа вю»). «Здесь всех кормят страхом. Он в нас проникает, как дым Чужих сигарет». «Время пить кофе» еще намечало надежду: «Время пить кофе и достигать нирваны», но нам уже ясно сказали, нирваны не будет. Будет только боль.
Почему столько боли? Хотел бы я верить, что причина только в том, что в радостном запале стихи не пишутся, это настроение под другие дела; а печаль, разочарование, злость — главное топливо, которое заставляет искать лист бумаги и выплёскивать на него свои переживания — оттого и столь концентрированный мрак.
...Или нет? Если так, это даже пугает.
Но если кошки трутся о душу, прося весну, надо дать им, что просят.
