Рецензия на роман «Путешествие с дикими гусями»
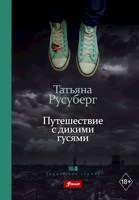
Сочетание правды и вымысла в литературе такая же волнующая вещь как сочетание идеи с выразительными средствами. Я бы даже сказала штука мистическая, ибо именно это сочетание сближает, примиряет автора с читателем и в определенном смысле уравнивает их, ведь автор всегда знает больше читателя, которому не рассмотреть замысел с первых страниц. Плюс восприятие читателя часто подкидывает свои ассоциации. И будет ли читатель дочитывать книгу зависит не только от пресловутого удалось ли автору увлечь/зацепить читателя, но и от эффекта узнавания, нашёл ли читатель в книге что-то созвучное его мыслям, знаниям и ощущениям.
Будучи знакома уже с тремя книгами Татьяны Русуберг, я должна сказать, что этот элемент взаимодействия автора и читателя через правду и вымысел она использует виртуозно.
«Путешествие с дикими гусями» это роман о детях проданных в сексуальное рабство. О преступности, социальной системе и адаптации.
Повествование ведётся от лица подростка. Но это не Бойл и не Хеддон, где контраст между действительностью и наивностью доведён до крайности и по мере чтения все больше и больше воспринимается как литературная манипуляция. Это не Корчак и Экзепюри, где за детьми постоянно маячит тень умного автора. О Русуберг скорее можно сказать, что она пишет как дышит. Естественно, легко, страшно, волнующе и не позволяя литературным приемам подменить собой идею текста и его акценты. Ее подростки ограничены, изолированы, в чём-то примитивны, часто ведут себя глупо и думают не о том, не так и не в ту сторону. Я помню чудную волну рецензий поры прошлого конкурса, когда умные и образованные рассуждали о том, как следовало вести себя Джеку. Эта волна помогла мне в полной мере осознать насколько удачен выбранный автором фокус повествования. Удачен потому что вызывает спор, возмущение, неприятие, антипатию. Ещё бы — человек/ребёнок ведет себя как угодившее в капкан животное, не видящее иного выхода как отгрызть себе лапу. Разуму полагается бунтовать в такой ситуации, иначе на хер он нужен. Возможно самое страшное не то, что один человек может сделать с другим, а то что человек может сотворить с собой сам.
Помнится, однажды я сказала что «Путешествие с дикими гусями» моя любимая книга у Русуберг. Дело в том, что кроме судьбы бедных детей, я чувствую в ней поступь древнего очень реального и непобедимого зла) С первых страниц Денис говорит « я бежал, я ел, я закрыл глаза», но при этом в книге нет личностей. «Я хочу, я могу, мне нужно» Дениса находятся в зародышевом состоянии. Отличная иллюстрация этой несвободы(личности нет без свободы выбора) ситуация с Китом и примитивные метания Дениса в стиле «я оттолкнул единственного человека, которому было не насрать на меня». Ян и Ева со всей своей жестокостью — представители древней как человечество системы рабовладения. Ник воплощение сравнительно свежих гуманистических традиций. И это столкновение мировоззрений наиболее остро воплощено в сцене, когда Ник, слушая рассказ Дениса, не может понять: твоя мать продала или бросила тебя. Такой расклад вне его понимания, и это делает Ника беспомощным и систему, что он представляет, несовершенной. Сцены и события в датском центре для подростков полируют это ощущение проигрыша личности перед обстоятельствами.
Во избежания дискуссий о морали и прочих «должно» сразу скажу, что выводы мои относятся к книге, художественному тексту как цельной и самодостаточной системе. Это не оценка общественных норм, нравов, не размышления о функционировании социальных служб и законов. Не профилактическая брошюрка, что делать, если вы подверглись насилию, которую хотел увидеть в Джеке один из рецензентов. Нет, даже касаясь острой социальной проблемы художественный текст остаётся художественным текстом и, оценивая его, свои правильно и неправильно, должно и следует советую засунуть в дальний угол и сконцентрироваться на внутренней логике повествования и акцентах. Если вам кажется, что работа социальной системы в тексте показана поверхностно, самостоятельно ищите информацию и упражняйтесь в релятивизме. Художественное же произведение работает иначе, и информация в линейке его средств стоит далеко не на первом месте. Контакт автор читатель происходит на более личном эмоциональном уровне. Посему силу воздействия текста буду оценивать исключительно по тому как часто он запускал в моем мозгу цепную реакцию. Как я уже отметила первый момент это отсутствие личностей при повествовании от первого лица. Второй момент тоже касается нашей беспомощности, личной и общественной, — «WTF? Как такое может быть?» спрашивает себя обыватель, когда сталкивается с упоминанием о торговле людьми. В «Путешествии с дикими гусями» автор последовательно и откровенно показывает «как», для меня ровно в том объёме и количестве, чтобы я вспомнила, что ещё двести лет назад людишки развлекались и образовывались публичными казнями. Это еще один авторский акцент, запускающий цепную реакцию в моем мозге и придающий книге ценность. Далее хочу отметить личные истории второстепенных персонажей ставшие важными для моего восприятия. Я уже говорила что все персонажи книги лишены личности детерминизмом ситуации. Однако лишенные личности дети имеют свою судьбу. И я не могу решить что пугает меня больше — судьба Кита или Ссыкуна. Найти ответ на этот вопрос, все равно что перестать/отказаться думать.
Таким образом для меня главный конфликт книги лежит в области личность/обстоятельства. Как следствие этого конфликта межличностные отношения являются недоразвитыми и ущербными. И это ещё одна сильная сторона книги, то, что возбуждает синапсы. Пример: сцена где Денис решил отплатить Нику за добро — полное разрушение адекватной модели поведения. Да и представления Дениса о том, что такое хорошо и что такое плохо, явно показательно состоят из реакций самосохранения, инстинктов и краем уха зацепленной чужой морали. Пример разговор вконтакте с Асей после освобождения. Денис сожалеет что спросил об умершем брате Аси, хотя казалось бы, после Ссыкуна и Кита ещё одна смерть не должна коробить. Честно мне понадобилось второе прочтение текста, чтобы понять, что эта сцена не баг, а фича. Денис искренне и честно стремится быть нормальным, реагировать как принято, но выглядит это не менее искусственно, чем взаимодействие с Ником. Есть ещё один пласт — индивидуальные реакции на ситуации давления — они пугающе общие ибо давление доведено до максимума и личностные различия стёрты. Пример ситуация с могилой: да, любой человек либо обоссался, либо бы заблевал все вокруг. Интересно что в свете этого отсутствия/лишения личности убийство Яна в финале приобретает для меня интересную этическую двусмысленность. Поданное как самозащита, убийство тем не менее является справедливым возмездием, которого так часто ищут в книгах читатели. Но чудится мне под этим смысловым слоем ещё один: для нормального человека убийство и месть определенно путь деградации, но что если для Дениса, у которого не было ничего нормального, это точка отсчёта для рефлексий и самосознания, первое основополагающее «я могу»?
На этом заканчиваю часть о моих личных отношениях с текстом и постараюсь сказать пару слов о композиции. Первое что приходит в голову — она динамична, удобна, и несет в себе компенсирующий заряд) В одной временной линии — выворачиваются наизнанку наши представления о человеческом достоинстве и личности, в другой — путь к освобождению. Короткие и острые сцены закаляют синапсы читателя. Попытки Дениса социализироваться примеряют читателя с жестокостью происходящего. Путь адаптации извилистый несовершенный как все в жизни, но определенно путь на поверхность к некой расплывчатой черте нормальности, которая достаточный ориентир на первое время. Для героя, для читателя. В первой и во второй линии акценты именно на тех поворотных точках, которые делают историю правдивой. Я имею в виду разброс личных историй детей в датском центре, учёба как пунк заземления, ожидания суда, вопросы опеки. Плюс благодаря этим акцентам и моментам создается очень хорошая впечатляющая и торкающая связь с привычной реальностью с преступной изнанкой мира.
Если говорить о языке книге, то кроме того что он безусловно хорош, следует обратить внимание на повторяющийся образ — такой же неизбежный как и выразительный — Денис в дороге. Рассматривает ли он звезды, видит ли город из окна машины — это всегда кричит о том чего он лишён, всегда символ необходимого, богатства, сокровищ и красоты, которых он лишен.
Уверена, моя рецензия была бы лучше и чётче, подсократи я часть о моих отношениях с текстом. Но когда ещё позволить себе откровенность, как не в разговоре о книге, которую любишь.
