Рецензия на роман «Пораженец»
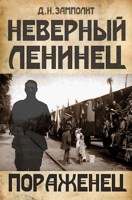
Серия романов «Неверный ленинец» автора, пожелавшего сохранить инкогнито под конспиративным псевдонимом «Замполит» представляет собой необычное явление в современной российской фантастике. Это не просто альтернативная история, это альтернативная история ВКП(б)/КПСС от самого её основания. У большинства читателей, особенно молодых возникнет естественный вопрос — зачем вообще нужна партия? Но прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо раскрыть совокупность причинно-следственных связей социалистической революции.
- Вторая промышленная революция заложила материально-техническую базу монополистической стадии капитализма.
- Достижение капитализмом монополистической стадии привело к кризису перенакопления в центр мир-системы и заблокировало индустриальное развитие на периферии.
- Стал неизбежен передел мира между метрополиями колониальных империй, т. е. мировая война.
- Позиционный тупик мировой войны вел к кризису власти, который делал ранее управляемые народные массы субъектом истории. Иными словами мировая война порождала мировую революцию
- Монополистическая стадия капитализма характеризуется подрывом рыночной конкуренции и распадом предпринимательской функции — отделения владения от управления. Это создает предпосылки для социалистической революции.
Социализм перезапускает индустриальное развитие на основе планомерных связей между обобществленными монополиями. Основные преимущества социализма следующие:
- Индустриальное развитие без возрастания имущественного неравенства — накопления носят общественный характер.
- Полная занятость — отсутствие безработицы. Исчезает рынок рабочей силы.
- Планомерные инвестиции не только в основные фонды промышленности и инфраструктуру, но и в развитие человеческого потенциала — социальную сферу, науку, образование. Возрастание стоимости рабочей силы вместо её падения.
- Макроэкономическое планирование — управление межотраслевым балансом. Устранение автоколебаний- циклических кризисов, и поддержание постоянно высоких темпов роста.
- Внедрение инноваций «сверху» - согласованное развертывание комплексов отраслей.
В XX веке Россия как «периферийная империя» и «слабое звено в цепи империалистических держав», «страдающая как от капитализма, так и от недостатка его развития» могла решить две свои основные проблемы — аграрное перенаселение и недостаточное развитие инвестиционного сектора, вызванное аграрной специализацией — только на пути социализма и она их решила. Программа победившего большевизма — «электрификация и ликвидация безграмотности», то бишь инвестиции в промышленную инфраструктуру и человеческий потенциал , а в дальнейшем индустриализации кооперации аграрного сектора,стояла на «трех китах»:
- Национализация промышленных и финансовых монополий и вообще крупных активов. Формальное обобществление производства устраняло имущие классы и позволяло обратить прибавочный на нужды общества.
- Монополия внешней торговли. Позволяла вырваться из ловушки специализации, направляя экспортные доходы не в сырьевые, а в инвестиционные отрасли.
- Централизованное планирование. Обеспечивало концентрацию инвестиций в машиностроение выше равновесия под будущие, а не текущие потребности, что форсировало темпы роста и гарантировало устойчивый спрос на рабочую силу, создавая рабочие места в промышленности.
Индустриально-урбанистический переход длился приблизительно полвека. Ежегодные объемы ввода промышленных мощностей возрастали вплоть до 1977, а затем вышли на плато. С 1928 по 1978 энерговооруженность народного хозяйства выросла примерно в 30 раз с 60 Мт. условного топлива до 1,8 Гт. При этом в первые пять пятилеток поддерживался режим удвоения промышленных мощностей в каждую пятилетку, правда часть потенциального роста была потеряна в войну, а в последующие пять пятилеток удвоение мощностей происходило за 10 лет. Без военных потерь СССР вышел бы на более высокое плато постоянного роста, даже если считать наивную оценку в 2-3 завышенной. По крайней мере уровень конца 70-х был бы достигнут в начале 70-х, когда урбанизация еще не была завершена. Кроме того, народное хозяйство СССР в 1922 начало строится фактически с нуля,, что дает еще одну «потерянную» пятилетку. Однако оптимизируя процесс индустриализации мы никак не отвечаем на вопрос о том, что будет после завершения урбанистического перехода, в режиме чисто интенсивного роста. Иными словами, даже если бы СССР был в 80-х сильнее и богаче, он все-равно бы столкнулся с вызовами завершения демографического перехода и завершения 3-й НТР — массовым внедрение ИТ. Ничего фатального для социализма в этих вызовах самих по себе нет — информация обобществляется еще лучше, чем основные фонды промышленности — однако от руководства страны и партии эти вызовы требовали самостоятельного поиска программы развития в новых условиях. Поэтому «коррекцией на старте» нельзя разрешить самый болезненный вопрос для России— «почему не стало СССР?» — решение находится «на финише». Единственно значимой в сравнении с реальным ходом истории поправкой в начальных условиях является модель федерального устройства — полиэтническая нация устойчивее федерации национальных государств.
В случае с тремя томами альтернативно-исторической эпопеи «неверный ленинец» мы имеем дело с поправками не просто «на старте», а в «предстартовой подготовке» так сказать. Подобная заблаговременность может показаться и во многом оказывается избыточной. И тем не менее она имеет право на существование, поскольку речь идет об альтернативах становления коммунистической партии как субъекта социалистической модернизации. Функция партии в структуре социалистического обществ именно такова — это субъект, управляющий процессом социальной эволюции, которая впервые в истории перестала быть полностью спонтанной. Аппарат отраслевого управления народным хозяйством может выполнить любую задачу— хоть человека в космос отправить. Хоть реки вспять поворачивать, но это задачу надо поставить. ВКП(б)/КПСС в СССР по существу представляла собой кадрово-идеологическую ветвь власти, обеспечивая целеполагание и контролируя назначения на ключевые должности в государственном аппарате. Ветвью власти партия стала далеко не сразу, а именно тогда, когда социалистическое общество было в основных чертах построено, что было закреплено решениями XVIII и XIX съездов — институты индустриального развития вышли на устойчивый режим функционирования. Таким образом историю партии можно разбить на 4-5 больших качественно различных этапов:
- От основания партии до Февральской Революции. РСДРП(б) — одна из фракций революционного социализма
- От Февраля до Октября. Большевики как партия, борющаяся за власть и одержавшая победу в этой борьбе.
- От 1917 до условно принятия сталинской конституции в 1936. Правящая партия, борющаяся за построение социализма.
- С конца 30-х начала50-х, когда партия была переименована в КПСС и до 1991 года. Пария как один из институтов советского общества— кадрово-идеологическая ветвь власти.
- После распада СССР. История продуктов разложения КПСС на «партию власти» и левую оппозицию.
На протяжении трех томов перед нами разворачивается альтернатива лишь к первому пункту. «Попаданец» Михаил Дмитриевич Скамов попал в удачное время развёртывания второй промышленной революции. Открытия и изобретения уже требует расчетов, но еще могут быть сделаны силами небольшой лаборатории. Когда эпоха второй промышленной революции завершиться и начнётся третья научно-техническая революция с атомными реакторами, ракетной техникой микроэлектроникой инновации потребуют работы больших коллективов узких специалистов. А пока инженер-строитель Скамов может внедрять инновации и за пределами своей специальности, основываясь на общей эрудиции. Техническое «прогрессорство» описано достаточно правдоподобно — стандартизация в строительстве и автосцепка с путеукладчиком на железнодорожном транспорте появляются раньше, чем в реальности, но в целом в свою эпоху. Грамотный инженер из будущего при переносе в прошлое вполне может стать изобретателем, тем более именно в рассматриваемую эпоху, когда среда уже сформировалась, но доступные открытия еще не сделаны. При этом наиболее эффективной формой институциализации форсайтов была бы организации вокруг «попаданца» одного из первых НИИ перспективных исследований и разработок с базовыми кафедрами в МГУ, МВТУ и народном университете Шанявского. Однако основная миссия главного героя прогресс не технический, но социальный. Для успешного партийного строительства навыки организатора куда критичнее теоретических знаний. Вывести уравнения Эйнштейна из действия Гильберта или спектр атома водорода из уравнения Шредингера обязан любой студент третьего курса физфака. Социально-философские дисциплины требуют своей специализации, и для руководства страны понимание концепций в этой области, пожалуй, в чем то важнее технических деталей, но и здесь при должной эрудиции вполне можно справиться. Потому что то, что было тогда открытием сейчас вошло в учебники. Ленин был не только выдающимся социальным теоретиком — главное детище Ильича это Партия, политический инструмент, перевернувший мир. Скамов следует ленинским курсом, выстраивая организацию. Существенных изменений по сравнению с реальной историей в общем-то два:
- Единый фронт социалистов.
- Тесные связи с кооперативным движением.
Социалистические партии говорили а одном концептуальном языке,поскольку вышли из народничества и испытали влияние европейских социальных теорий, в первую очередь марксизма, и исповедовали близкие ценности. В этом смысле превосходство в концептуальной оснащенности позволяло бы «попаданцу» выигрывать большинство теоретических дискуссий и предложить общую платформу. Однако помимо идей, есть еще и интересы общественных групп. Большевики представляли интересы промышленных рабочих и еще более широкой массы полупролетариата — батраков, крестьян-отходников и временных рабочих, которым уже нет места в деревне, но еще нет места в городе. Именно это слой более всего нуждался в индустриализации, получив вновь создаваемые рабочие места в промышленности. Меньшевики представляли рабочую аристократию и массовую интеллигенцию. На первый взгляд особых антагонистических противоречий нет, однако психологический образ нерешительного политика, не способного воплотить собственные программные установки, сложился именно у меньшевиков. При том, что выходцев и меньшевистской фракции как носителей специальных знаний и навыков большевики привлекли к работе в советских органах. Эсеры представляли интересы крестьянства. В том числе левые — крестьянскую бедноту. Здесь различия уже существеннее, ведь индустриализация это победа города над деревней. Кооперация — возможный компромисс, но и здесь в первую пятилетку неизбежен конфликт интересов. По сути колхозы должны были дать государству кредит на закупку первых партий машиностроительного оборудования с возвратом через поколение. Чтобы продавить такое решение через кооперативный съезд надо обладать огромным авторитетом и политической волей. Эсеровская альтернатива большевизму известна. Победа левых эсеров это маоизм с крайними вариантами типа полпотовской Кампучии. Победа правых эсеров в купе с народными социалистами это БААС в арабском мире. Перспектива не самая вдохновляющая, хотя это и лучше откровенно колониальных режимов. Даже путь Дэн Сяопина — бухаринский сценарий индустриализации, возможный лишь при особо благоприятных геополитических условиях, на самом деле пока не привел к более высоким достижениям, чем в СССР. Душевые показатели КНР это уровень СССР начала 70-х, с поправкой на огромную численность населения и другую технологическую эпоху, при этом при Брежневе миллиардеров не было, а Председателю Си еще предстоит разобраться со своими прежде чем ответить на вызовы завершения экстенсивного роста. А ведь помимо эсеров в левом лагере были еще и анархисты — анархо-коммунисты, грезившие простой солидарностью крестьянского мира, анархо-синдикалисты как политическое крыло самозанятых работников, и анархо-индивидуалисты популярные у деклассированных элементов. Поддержание организационного единства столь широкого «народного фронта» в борьбе за власть с интеллигенско-буржуазными либеральными партиями кадетов и октябристов, не говоря уж о правом фланге, требует недюжинного искусства политической эквилибристики. Скамов сумел «продавить» почти всех, кроме Ленина и Плеханова — слишком крупные фигуры, чтобы быть марионетками — а ведь у Ленина получилось без послезнания! Воображать себя вождем куда проще,чем быть им на самом деле.
Сцепка партии с кооперацией следует рассматривать в большей степени как задели на будущее, хотя она не менее важна чем организация профсоюзов или участив в просветительских проектах, поскольку все это позволяет обучить активистов конкретному делу и обеспечивает поддержку масс. Однако кооперативы сами по себе не перерастают в социализм даже там, где кооперация сильна. Зато после революции большая степень контроля партии над кооперативным аппаратом позволила бы большевистскому правительству решать проблемы продовольственного снабжения с меньшими усилиями. При всей масштабности кооперативного движения в России, которым крестьянство ответило на столыпинскую реформу, из 50 тыс. кооперативом с 14 миллионами членов на 1917 год более половины были кооперативами потребительскими, а доля производственной кооперации составляла порядка 1/6, причем вполне возможен был двойной учет. Когда одно и то же хозяйство входило в несколько кооперативов разных типов. С другой стороны, в 19127 только порядка 1% крестьянских хозяйств — 238 тыс. дворов объединились в колхозы по собственной инициативе. Скорее всего эти характерный цифры 14 миллионов кооператоров вообще и четверть миллиона участников сельхозартелей, если считать по главам семейств, это тот максимум на который могло бы выйти кооперативное движение на наилучшей организации к 1913, а не к 1917 году. Иными словами можно добиться опережения графика, но не увеличения масштаба. Альтернативная история конечно во многом жанр художественной литературы, но достоверность моделирования важна. Можно авторским произволом пустить Гольфстрим по Севморпути и наслаждаться рекордными урожаями бананов в советском Заполярье, но столь чарующие перспективы будут малоубедительными для вдумчивого читателя. Благорастворением воздухов страдают многие «имперские» альтернативки, где Россия расцветает только лишь потому, что этого хочется автору, не потому что он действительно знает механизмы достижения экономического успеха.
Альтернативная история России в рассматриваемую эпоху разумеется не обходится без геополитических вопрос. В общем-то альтернатива это желание махать кулаками после драки. В том числе переигрывать проигранные сражения и войны. Российская империя на закате своего существования ввязалась в две войны, в том числе первую мировую империалистическую бойню, и обе проиграла. Автор не обходит стороной и этот вопрос, хотя он для повествования вторичен, что положительно выделяет оное на фоне прочих. Авторская альтернатива довольно умеренная и в основном сводиться к сдвигу сроков начала обоих войн примерно на полгода вперед. Большого смыла в таком сдвиге нет, скорее это демонстрация эффекта обратного влияния использования апостериорной информации на ход событий. При этом в обоих случая более ранее начало войны не слишком выгодно для нападающей стороны. Япония как слабейшая сторона нуждалась в накоплении сил. Хотя окно возможностей между завершением японцами кораблестроительной программы «6+6» в 1902 и началом сквозного движения по Транссибу в 1904, этот и даже несколько более ранний вариант начала Русско-Японской войны допускает. Русско-Японская война выступает значимой исторической вехой по двум причинам:
- Япония стала первой неевропейской страной, бросивший вызов европейскому колониализму. Индустриальный империализм перестал быть монополией «белого человека»
- Механизм территориальной экспансии Российской империи — расширение служилым сословием базы коллективной земельной ренты — сломался именно на конфликте с Японией за Маньчжурию и Корею.
Ленин особенно выделял всемирно-историческое значение первого пункта — в конфликте двух империализмов он видел предпосылку подъёма угнетённых масс Азии, к коей во многом относилась и сама Россия. Однако не менее значим и второй пункт — правящий класс Российской империи фактически расписался в полной профнепригодности. Победа революции не предотвращала, разве что отодвигала, но поражение делало неизбежной. Более того, неизбежность первой русской революции была обусловлено именно тем, что поражение вовсе мне было запрограммированным. Япония обладала только одним стратегическим преимуществом — в логистике. По остальным параметрам — населению, промышленному потенциалу, численности армии и флота Россия превосходила Японию в три и более раза. Более того, преимущество в логистике во многом нивелировалось вводом в строй Транссиба — самого масштабного инфраструктурного проекта империи. В рассматриваемой альтернативе Транссиб был построен даже раньше, хотя сделать это следовало бы еще 70-х - 80-х годах XIX века, ведь первая трансконтинентальная магистраль в США была построена к 1869 г., а в Канаде к 1885. Более того, Россия обладала океанским флотом единственный раз в своей истории — именно перед Русско-Японской войной. Советские атомные подводные ракетоносцы обеспечивали стратегический паритет, но не были инструментом проекции силы, а сбалансированы авианосные соединения в СССР так и не были созданы. Николай II имел все для «маленькой победоносной войны» кроме воли к победе и умения побеждать. Ни в одном из крупных сражений на море и на суше у Японии не было неоспоримого превосходства, причем поражение в битве влекло для Японии поражение в войне с вероятным превращением в полуколонию. Для России же наоборот, даже потеря двух тихоокеанских эскадр еще не означала поражения — СССР смог разгромить Японию толком не имея флота. Перенос линии обороны Порт-Артура к Дальнему, решительный прорыв 1-й Тихоокеанской эскадры, продолжение борьбы под Мукденом и самостоятельные действия 1-го броненосного отряда 2-й Тихоокеанской эскадры могли очень существенно изменить ход войны. В авторской версии мы видим случайную перетасовку событий вместо бифуркации. Это не то чтобы нереалистично, но не слишком интересно. В реальной истории 1-я эскадра отказалась от прорыва, но разгромлена в Желтом море не была — наоборот соотношение потерь было не в пользу Японии. Даже размен 1 к 1 в ходе прорыва существенно ослаблял возможность японского флота перехватить 2-ю эскадру, особенно при поддержке остатков 1-й. В свою очередь, объединение эскадр и при размене смещало баланс в сторону России. Аналогично удержание Артура до последнего влияет на ход мукденского сражения, и иной его исход меняет ход войны. Представления о системном превосходстве Японии не соответствуют действительности, однако гипотетическая победа царизма, внутренние системные противоречия разрешить не помогала, скорее законсервировала бы их, что могла бы привести к более быстрому коллапсу в Первой Мировой.
Авторский сценарий первой мировой также построен на сдвиге реальных событий на полгода вперед с незначительными изменениями. Как отмечали читатели в своих комментариях, такой перенос сроков ставил под сомнение осуществление плана Шлиффена, и вряд ли военное руководства Германии пошло бы на развязывание войны в неудобный для себя момент даже при наличии провокаций — эскалация конфликта в большей степени зависела от Вены и Берлина. Окно возможностей для Германии тоже было достаточно узким — например, разрыв соотношении сил флотов Британской и Германской империй был минимальным именно в 1914. Промышленный потенциал одной лишь Германии был сопоставим со странами Антанты вместе взятыми. Так в 1913 Германия выплавляла 17,1 млн. тонн стали, а Великобритания (7,8 Мт), Российская империя, включая царство Польское и Финляндию (4,9 Мт.) и Франция (4,7 Мт) в совокупности — 17,5 Мт. Добавление потенциала Австро-Венгрии (2,2 Мт) к Центральным державам и Италии (0,85 Мт) к Антанте, еще более смещает баланс в пользу возглавляемой Германией коалиции, контролирующей таким образом более половины металлургических мощностей Европы - 19,3 из 37, 8 Мт или 27% мирового производства. Понятно почему Германия, не располагавшая значительными колониями, стремилась стать «суперхищником», подчиняющим другие колониальные метрополии. В целом эпоха мировых войн это фазовый переход от колониализма к империализму в строго научном ленинском понимании. Колониальная система это сбыт товаров национальной промышленности на аграрной периферии. Империализм это вывоз капитала - эксплуатации размещённых на периферии зависимых производств. Мировое господство, к которому рвалась германия по итогам Второй мировой было завоёвано США и только мировая система социализма на протяжении 40 лет представляла альтернативный способ индустриального развития, отчасти унаследованный КНР. Победившую коалицию предопределяло участие США, заслуга Советской России перед человечеством состояла в том, что цепи империализм были надорваны.
Россия в Первой мировой могла рассчитывать в первую очередь на свой демографический потенциал — третье в мир населения 175 млн. чел. Однако совокупный потенциал стран четверного союза был немногим меньше — 146,5 млн. человек без учета населения колоний. В Великую отечественную ситуация была другая — в силу разницы фаз демографического перехода. демографический потенциал СССР уравновешивал демографический потенциал стран Оси в целом и обеспечивал достаточный запас прочности на европейском ТВД, но главное, что промышленный потенциал СССР как минимум догнал немецкий. Кроме того Советский Союз концентрировал ресурсы гораздо эффективнее чем Российская империя, потому и добился победы над Германией и её союзниками. Российская империя обладала стратегическим превосходством над Австро-Венгрией и Турцией вместе взятыми, будучи сопоставимой с ними усреднённому по уровню развития, но уступала Германии. Поэтому естественная стратегия для русской армии заключалась в выходе на наиболее удобные для обороны рубежи на германском фронте в ходе манёвренного этапа войны и последующей концентрации усилий с целью вывода из войны слабых звеньев в коалиции центральных держав. Русский генштаб эту стратегию и пытался реализовать. Для удержания Польши требовалось «срезать выступы», причем обладание Восточной Пруссией определяло устойчивость всего фронта. Ключевая развилка 1914 — битва при Таннеберге. Если Самсонову удается победить, а такой шанс был, не говоря уже о возможности смещения баланса в пользу Северо-западного фронта на стадии планирования, то удержание позиционного фронт от Данцига до Кракова по линии рек Висла и Варта, и далее по Карпатам представляется вполне возможным даже в условиях снарядного кризиса 1915 г. Скорее всего в дальнейшем русская армия пыталась бы наступать от Кракова через Остраво-моравский район к Вене и Верхняя Силезия стала бы Верденом Восточного фронта. Использование послезнания дает еще несколько альтернатив в 1914. Во-первых, план Шлиффена становится еще более авантюрным, если станет известен французскому командованию. Во-вторых, во-вторых, осознание неизбежности вступления Турции в войну на стороне Центральных держав меняет планы мобилизации Кавказского фронта, что потенциально позволяет упредить Турцию в развертывании, навязать начало военных действий на своих условиях, и нанести более масштабное поражение, чем в реальной истории. «Вековая мечта» о Проливах с учетом провала Дарданелльской операции не выглядит осуществимой, но и здесь возможны варианты. От результатов 1914 года зависит состоится ли великое отступление русской армии, стратегически запрограммированное слабостью промышленности, запаздывающей с мобилизацией примерно на год, но оперативно обусловленное именно поражением в Восточной Пруссии и необходимостью удерживать слишком длинную линию фронта в Варшавском выступе. В авторском сценарии отступление русской армии ограничивается линией от Ковно до Львова, видимо в качестве заготовки к установлению послевоенной границы как в 1940 и 1945. Средний Неман и Буг представляются достаточно удобными оборонительными позициями, хотя линия фронта через беловежскую пущу вызывает вопросы, поскольку к западу от неё оказывается такой важный транспортный узел как Белосток. При удержании Галиции линии рек Висла и Нарев и далее до Гродно по августовскому каналу удлиняют фронт не принципиально, но дают больше возможностей закрепиться на этом рубеже. Впрочем эти технические детали не изменят принципиально ход повествования. Россия фактически проиграла Первую мировую не по военным причинам — армия сражалась достойно и генералитет не допускал крупных просчетов как в 1941 — а по причинам социально-экономическим — общество было к войне не готово и не способно мобилизовать даже наличествующие ресурсы. Вторая русская революция, случившаяся почти в середине войны через 30 месяцев после её начала и за 20 месяцев до её окончания стала следствием мобилизационных усилий, передавших власть от традиционных помещичье-бюрократических элит к военно-промышленным. Но именно война не позволяла элитам власть удержать, открыв окно возможностей для перерастания запоздалой буржуазной революции в столь необходимую социалистическую. Так что самое интересное нас ждет в четвёртом томе.
Первые три тома это лишь предыстория оптимального пути строительства социализма. Этапы кумулятивного развития разрываются этапами борьбы. Вторая Русская Революция подвела итог развитию Российской Империи. Все последующие события зависели от начального состояния, но не от способа его достижения. Именно поэтому выбранный автором горизонт заблаговременности представляется избыточным. Альтернативная история Российской империи и революционного движения внутри неё закончена. Достигнут примерно тот же уровень развития производительных сил аграрно-индустриального общества с теми же социальными противоречиями и близкими результатами внешней политики.Этап экстенсивного расширения аграрного сектора исчерпан и дальнейший рост промышленности предполагает увеличение доли городского населения. Организована политическая партия, выступающая за программу социалистической индустриализации. Основной вопрос следующего тома — как эта партия выиграет борьбу за власть? Перипетии этой борьбы составят интригу четвёртого тома, но для последующего развития социализма будет значим только баланс конченого и начального состояний. Остаётся только пожелать автору достойно справиться с этой трудной задачей!