Рецензия на повесть «Винтовка и радуга»
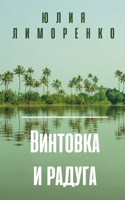
Радуга начерно
Эта повесть — двойная доза литературно-мировоззренческой ностальгии. Её, пожалуй, будет непросто воспринять тем, кто родился со смартфоном в руках. И дело тут не в каких-то интеллектуальных глубинах. Сюжет — простой и линейный, идея прописана прямым текстом. Поймёт и школьник — но вряд ли получит кайф от прочтения.
Чтобы насладиться этим текстом по-настоящему, надо помнить сладковато-манящий запах библиотечной пыли. В этом смысле Юлия Лиморенко адресует свою «Винтовку и радугу» тем читателям, кому уже слегка «за…» Такое у меня ощущение.
На календаре — 1885 год. В экваториальной Африке пропала научная экспедиция. На её поиски отправляются двое американцев и англичанин. Охрану им обеспечивает небольшой отряд французских солдат. А проводником неожиданно выступает юная девица — француженка, выросшая в Заире.
Путешественники столкнутся с экзотической фауной и с людьми, которые хуже любых зверей. Пугающие колониальные нравы, местное колдовство — всё это тоже будет. А в финале герои найдут и вовсе нечто невероятное.
Автор добросовестно привязывает действие к местности, перечисляет топонимы. Красочно описывает ландшафты и повадки животных. Приводит латинские названия видов. Даёт, наконец, политические расклады — кратко и ненавязчиво.
Но повесть всё равно не совсем про Африку.
И не про (как выразились бы в советских газетах) звериный оскал колониализма — хотя он, оскал, тут присутствует вполне явственно.
Повесть эта лично для меня интересна как попытка реконструировать мироощущение человека, ещё не отравленное субстанциями с префиксом «пост-». Постмодернизмом, к примеру, или постправдой.
Вторая половина девятнадцатого столетия была в этом смысле особым временем. Огромный мир стал доступнее — не только технически (благодаря железу и пару), но и психологически тоже. Заморские берега (Восточная Азия, Океания, та же Африка) по-прежнему оставались для европейцев дикой экзотикой, но уже не казались чем-то инопланетным.
Тёмной стороной этого явления был новый виток колониализма, светлой — взаимопроникновение культур, которые прежде не пересекались друг с другом. Японскую графику, скажем, продемонстрировали в Европе — и она впечатлила тех, кто вскоре приложит руку к становлению импрессионизма во Франции.
Я счёл уместным такой пример, поскольку автор повести, как мне кажется, неравнодушна к живописи. Оцените цитату:
…сверху, с деревьев, было теперь ясно видно, что у туманных клубов странный цвет — художники называют его «пыльная роза», только здесь он был, как сказали бы художники, в сильном разбеле.
Литературным же гимном тогдашней путешествующей публики можно, вероятно, назвать сочинения Жюля Верна. Те, в которых герои — «славные люди» — пересекали мир на пари или в поисках капитана Гранта, сражаясь по дороге с мерзавцами.
Интонация, с которой Юлия Лиморенко преподносит нам свой сюжет, тоже пришла оттуда, из романической жюльверновской эры. Лексика подобрана соответствующая, а плавность повествования сохраняется, даже если начинается «экшн»:
В следующее мгновение умница Жанпель выстрелил в том направлении, где засел неосмотрительный стрелок. Ужасный вопль боли донёсся из кустов, а следом хлестнул по ветвям выстрел с той позиции, где укрылся Прюнель. Человеческое тело рухнуло на сплетения лиан…
Нельзя сказать, что герои здесь — многогранные, противоречивые личности. Но и назвать их чистыми функциями, картонными силуэтами тоже будет неправильно. Это некие типажи — не столько даже из реальной действительности, сколько из рациональной модели мира, которая представлялась тогда прогрессивной публике.
Герои не деградируют в процессе повествования и не сползают в сумеречную зону морали; злодеи остаются злодеями — и получают наказание от героев. Автор не выстраивает «арки персонажей» по заветам литературных коучей — не потому, что не может, а потому, что повествование в данном случае развивается по другим литературным законам.
Сегодня так не пишет никто. И вчера (сиречь в двадцатом веке) так уже не писали.
Перед нами здесь мастерская стилизация под «позавчера».
Читая повесть, мы слышим ностальгический отзвук наивной веры в возможности человека — разумного и гуманного. Мы видим, как колдовство пасует перед наукой и выдаёт свои тайны под микроскопом.
Путешественники проникнут в сердце чёрного континента и поднимутся по реке, отравленной чёрным колдовским ядом, чтобы обрести заслуженное вознаграждение — ту самую радугу из названия повести.
И тут, в финале, повествование вдруг делает шаг из девятнадцатого века в двадцатый. Из одной наивной фантастики в другую — почти столь же наивную, но технически более притязательную. Из стилистики Жюля Верна — в советскую НФ с радужным финалом и мечтами о «правильном» новом мире. Вот почему я упомянул двойную порцию ностальгии.
Сейчас мы знаем, что те мечты не сбылись.
Но я всё равно благодарен автору за то, что она мне о них напомнила.
