Рецензия на роман «Операция "Молодожёны", или Задачка о чёрном квадрате»
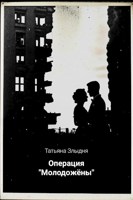
Мешок спойлеров #52. Горькая память о горьком городе
Рецензия написана и впервые публиковалась в 2019 году.
Буду предельно честен. Не люблю я Нижний. Вот не люблю, и все тут!
Может быть, потому, что у меня с ним связаны в основном горькие воспоминания. Не настолько, как у героев книги, но все же. А может, потому, что когда я там оказывался, у меня редко когда было дело именно в Нижнем — обычно я там был проездом. И он — большой, шумный и неуютный — мне при таких обстоятельствах понравиться не мог в принципе. Даже несмотря на то, что я вырос поблизости, в Красных Баках. Хотя... Там совсем другой менталитет, наверное, потому, что при царе Баки относились не к Нижегородской губернии, а к Костромской. И жили там изначально, еще не так давно (четыре века назад) не русские, а марийцы. В общем, все сильные и хорошие грани Нижнего как-то прошли мимо меня, как и мимо героев романа «Операция „Молодожены“, или Задачка о черном квадрате». Именно там Татьяна Злыдня развернула действие шпионского романа.
На территории Горьковской области боевых действий не велось, туда фрицы не дошли, но налеты гитлеровской авиации на крупный закрытый город, кишащий оборонными заводами, до 43-го года случались регулярно. Когда ради бомбежки, а когда и ради заброса шпионов и диверсантов. В марте сорок второго где-то под Арзамасом (это в области) высадились с парашютами двое сдавшихся в плен и согласившихся сотрудничать с нацистами красноармейцев. Василий Ромашов, тридцатилетний учитель откуда-то из Смоленской области, и его «одноклассница» по школе подготовки шпионов Лидия Фролова, машинистка — из Кировской. Молодая, незамужняя. Оба пошли на фронт добровольцами, а на сотрудничество с вражиной согласились из намерения сдаться своим, когда их забросят в тыл. Для 1942 года план совершенно погибельный. Приказа № 227 «Ни шагу назад!», объявившего плен при любых обстоятельствах несмываемым позорищем для всей семьи сдавшегося военного, тогда еще не было, но наращивать дисциплину в войсках, бесконечно отступающих, уже начали. Ну не в сорок втором расстреляют, так в сорок пятом (я всю книгу был свято уверен, что после выполнения задачи оба встанут к стенке, но... потом, обо всем потом). Предатель один раз не предает. Но ни Ромашов, ни Фролова об этом тогда не знали. А потому, высадившись, поймали какого-то деда, везущего на телеге с лошадью роженицу, и напросились попутчиками до Горького, где самолично явились прямо в УНКВД. Для несведущих в истории — служба госбезопасности тогда называлась Народным комиссариатом (наркоматом) внутренних дел. В сорок шестом ее переименуют в МГБ, в пятьдесят четвертом в КГБ, в середине девяностых она недолго будет называться ФСК, а потом станет нынешней ФСБ.
Сначала им не поверили. Март сорок второго — не время для идиотских шуток с госбезопасностью. Расстреляют и пальцем не поведут. Однако, у арестованных — а их, конечно, сразу арестовали — слишком четкие и хорошо сходящиеся показания. Начальник горьковской «гэбни» полковник Летунов в дальнейшем берет дело в свои руки. Долго думает, кумекает, что делать с предателями, нашедшими, однако, яйца пойти и повиниться, несмотря на почти стопроцентную вероятность расстрела или лагерей (и неизвестно, что хуже). Наконец, принимается решение — не одним Летуновым, но и Москвой — о перевербовке. С одной стороны, предателям нет прощения. Наверняка уполномоченные на то люди планировали поначалу после использования шпионов расстрелять их. С другой — не время разбрасываться людьми, уже успевшими втереться в доверие противнику. И самым логичным будет переправлять врагу дезинформацию, чем впоследствии «Петр и Мария Чугуновы» (немцы справили им фальшивые документы именно с такими именами, велели прикидываться семейной парой, хотя ни Василий, ни Лидия страсти друг к другу не испытывают) и будут заниматься.
Их поселяют у какого-то старика в рабочем поселке, старику наказано глядеть за шпионами в оба, чуть что — сразу же докладывать куда надо. Причем шпионы ведут себя абсолютно надежно, не выказывая никакой тяги еще послужить вермахту, передают всю дезу без малейших сомнений, не совершают ничего хоть сколько-нибудь подозрительного; старик расслабляется, доверие Летунова, открыто презирающего Ромашова и тычущего ему в бок фактом предательства при каждом удобном случае, тоже со временем появляется и крепнет. Настолько, что спустя год, уже в сорок третьем, его снова посылают за линию фронта, в тыл к немцам, в ту же школу, где он проходил обучение шпионскому делу. Хотели послать Лидию, однако не послали. Была на то причина медицинского характера. Ромашов получил задачу втереться к немцам в доверие и выведать как можно больше важного. Однако же — несмотря на все пройденные проверки, немцы снова отправляют его в советский тыл...
Шпионский роман — он и есть шпионский роман, незачем его пересказывать, его надо читать лично. С этого момента заканчивается «вводный курс» и начинается непосредственно рецензия. А что такое рецензия, чем она отличается от просто отзыва, кто вспомнит? Отзыв субъективен, на уровне «мне нравится-не-нравится, терпи, моя красавица». Рецензия же — более сложный жанр публицистики и предполагает анализ произведения в разрезе реальности, без вкусовщины и личных хотелок рецензента. Скажем так, я считаю совершенно неправдоподобным то, что случилось с «молодоженами» после Победы. При изучении некоторых источников становится ясно, что такого быть не могло. Слишком большое пятно эти люди успели посадить на себя, причем пятно такого свойства, какое в те года считалось несмываемым никакими средствами. И за меньшие грехи наказывали гораздо строже. Но это обстоятельство будет лишь упомянуто — именно упомянуто с точки зрения правдоподобности! — но без моральных оценок. Потому что моральная оценка субъективна. В том числе и «предатель один раз не предает». Воистину, что мог сделать Летунов в сложившейся ситуации? Самое простое — предать шпионов суду, и участь их в то время мог предсказать даже детсадовец: расстрел и вечный позор. Неслучайно пятью годами ранее расстрелянных по разнарядке объявляли, как правило, шпионами враждебных или потенциально враждебных Стране Советов государств. Или националистами. Или реакционерами «за веру-царя». Или еще какой-нибудь нечистью. Хотя основная масса контрреволюционной нечисти, не вычищенной во времена Красного террора (1918-1922 годы) к тому времени уже давно свинтила в Европы (пока еще не гейропы). В романе эта тема тоже поднимается: один из руководителей разведшколы, где Молодожены проходили обучение — взявший немецкую фамилию белоэмигрант. Введенный как бы для оттенения: вот где настоящий предатель, вы что, товарищ полковник? И сами Молодожены выписываются автором нейтрально-положительно, как «оступившиеся», об их предательстве говорит в основном Летунов. Остальные молчат.
Сим образом роман поднимает такую непростую тему, как искупление вины. В середине двадцатого века — как, впрочем, и раньше, и некоторое время позже — считалось, что есть грехи неискупаемые даже смертью, и к ним несомненно относится шпионаж, государственная измена, критерии которых тогда были намного шире, чем сейчас. Достаточно было подобрать немецкую листовку на случай, когда она понадобится, чтобы вытереть ей грязную задницу. Да никому ты не докажешь, что намерен был вытирать ей задницу, а не перебежать к фрицам! Если, конечно, не успел измазать в дерьме и бросить в кустах возле кучи. А вот если порвал на самокрутки, это тебя тоже не спасет. Сейчас же — в полувоенное время — может быть, какие-нибудь патриотично настроенные гопники порвут на тебе майку с американским флагом (или — на 2022 год — какой-нибудь идиот докопается в электричке до желто-голубого рюкзака), но не более того. Перед законом ты будешь абсолютно чист, несмотря на то, что у тебя дома половина вещей может иметь то или иное отношение к потенциальному врагу. Серьезной угрозой Россия сейчас воспринимает лишь блок НАТО. Да, а гопников еще и пропесочат после такой разъяснительной политической работы. Может, подержат в обезьяннике, пошьют хулиганство и выпнут вон, а может, и посадят. Причем, надо сказать, в тех условиях все эти действия были абсолютно логичны и оправданны. Никто же не может залезть бойцу в голову, дабы уточнить: для предательства он припас листовку или для жопы? Нелогичное и неоправданное началось с 1946 года, но это тема уже совсем иных книг и рассуждений.
Чтобы читать и здраво — без пугалок в солженицынском духе — воспринимать реальность тех времен, следует накрепко и твердо уяснить: гуманизм и права человека стали общемировой идеологией в 1945 году. Не раньше. В развитых странах были предпосылки, но не более того. Мир был совершенно иным. Жизнь ценилась намного меньше, причин поставить виновного к стенке было намного больше. Жестокость политиков тех времен во многом обуславливалась тем, что тогда не видели ничего дурного в их жестоких деяниях: само мироустройство вынуждало людей мыслить иначе. Попробует сейчас президент какой-нибудь страны дать добро на репрессии в адрес нацменьшинств, политических оппонентов (конкретно этот пунктик не распространяется на США) или даже опасных для общества сексуальных извращенцев — вой поднимется — мама не горюй. Даже если у него на то есть причины, которые трудно не назвать вескими. А тогда все это было можно. Пока нацисты в тридцатые резали евреев, все молчали. Никто даже не отозвал дипмиссию из Германии в знак «так нельзя, мы с вами больше не дружим», не говоря уже о том, чтобы предоставить евреям и антифашистам политическое убежище. Пока англичане морили свои колонии голодом — всем было плевать. Про расовую сегрегацию в США, сохранившуюся до конца шестидесятых, я вообще помолчу, а сейчас там попробуй только назови негра негром*).
Это одна из причин, по которым давно минувшие дни кажутся нам страшнее, чем они казались современникам и непосредственным свидетелям событий. Стало быть, и к предательству относились тогда гораздо негативнее, не оглядываясь ни на какие личные мотивы, ни на возможности человеческой психики противостоять давлению, ни на страх. Пресловутый «патрон для себя» — не выдумка ура-патриотов, а горькая реальность. Горькая и при том безмерно уважаемая. Устранение Фроловой и Ромашова после войны выглядело бы абсолютно реально, несмотря на все заслуги, точно так же абсолютно оправданным был бы их расстрел в 42-м, сразу после явки с повинной. Но полковник Летунов мыслит иначе, ставя в условиях военного времени ситуативную мораль ниже фактической пользы. Ведь могут же эти перебежчики еще послужить Родине, будучи при этом еще и придавленными грузом собственной вины, что увеличит эффективность? Могут. Конечно, в душе Летунов бы одно поле удобрять с Ромашовым не пошел — ему противно, и это абсолютно понятно. Но ведь немцы доверяют этому гаду? А если так, то почему бы не задействовать его в целях разведки и контрразведки? Тем паче что тот и сам, кажется, понимает, что натворил. И более того — его, Летунова, абсолютно понятное отвращение к предателю заметно слабеет после одного из эпизодов, произошедшего уже после того, как Ромашов был заброшен в немецкую разведшколу. Он смог подтвердить, что он не трус. Что при предательстве им двигали какие-то личные мотивы — понятно само собой, и что они могут двинуть им опять — тоже понятно, но ведь второй раз не двинули? Так Василий Ромашов и оказался уникальным предателем, не предавшим второй раз. Точнее, третий — первый раз сдался немцам, предав своих, второй — сдался своим, предав уже немцев. А Летунов — уникальным чекистом, сумевшим раздавить в себе опухоль чекистской профдеформации — вечной подозрительности и хронического недоверия. Настоящие мужики с настоящими яйцами.
В этом мешке будет толстый спойлер —
Оценка по критериям:
Стиль и слог автора: 8/12 (актуально на 2019 год). В книге не часто, но периодически встречаются опечатки. Пару раз мужские фамилии употребляются в женском роде, некоторые слова написаны уже не с опечатками, а с ошибками. Сам же слог и стиль — ровный и легкочитаемый, без особых вывертов и без особых стилистических изъянов. Порадовали полновесные, нормальных размеров абзацы: все чаще в самиздате наблюдается «битая компоновка» — короткие абзацы из 1-3 предложений. Это позволяет ускорить чтение, но сильно бьет по красоте самого языка.
Сюжет: 12/12. Несомненно, это одна из главных для шпионского романа точек осмысления книги в литературном плане: насколько хитро и заковыристо выстроен сюжет. Это имеет здесь прямую связь с соответствием жанру (как и в детективе): скучный сюжет в книге про шпионов делает картонными самих шпионов. Ибо какие же они тогда шпионы, если участвуют в таких скучных мероприятиях? Что это за шпионаж такой? Здесь с шпионажем все в порядке. Персонажи прошли огонь, воду, медные трубы и свирепых чекистов. Да и (спойлер) немцы тоже не особо-то миндальничали с Ромашовым.
Проработка персонажей: 12/12. Собственно, это можно уместить в комментарий к оценке сюжета.
Социально-культурная ценность: 10/12. Книга, поднявшая такую сложную тему, как предательство и пути к искуплению — по определению не может иметь низкую СКЦ, но также не может иметь и максимально высокую, ибо последствия ее неправильного осмысления потенциально страшны. Движение «навоняй моралями научи хорошему» обязательно сказало бы, что этот роман пропагандирует предательство. В нем же нет картонных, понятных трехлетним детям «пряников» — однозначно предсказуемых, пафосно-патриотичных персонажей, даже среди чекистов. А зато есть предатели Родины, которых даже в конце не расстреляли! Другой вопрос — что пропагандирует само «Научи хорошему» (
Обложка и аннотация: 3/12. Жизнь — боль. Наверное, автор обложки подразумевал минимализм... но получилась просто примитивная, кое-как сляпанная черно-белая картинка с замусоленными шрифтами, используемыми в основном для объявлений и информаторов, но не в дизайне и искусстве. Аннотация — сухарь, способный заинтриговать темой, но не сюжетом книги. За такой может скрываться как подобная по мощи этой вещь, так и ура-патриотическая влажная агитка на тему «смерть шпионам!» с плохо скрываемым посылом «кто не с нами — против нас!», торчащими отовсюду ушами конкретных политических сил, эту агитку заказавших, и приравнивающих всех своих оппонентов к предателям, фашистам и педерастам. Кажется, такой низкой оценки по этому критерию я не ставил еще ни одной книге. Другая тема, что именно этот критерий как раз-таки саму книгу никогда не портит. Может испортить интерес читателей, репутацию книги и автора среди них, но не саму книгу.
Общая оценка после округления: 9/12. Книга хорошего качества и рекомендуется к прочтению.
*) Справедливости ради, именно у американских черных есть уважаемая причина не терпеть этого слова в свой адрес, так как в англоязычных странах слово «nigger» носило уничижительный характер, являясь чем-то вроде нашего «холоп» — указывало на рабство. Хотя само слово «негр» произошло от испанского «negro», означающего просто «черный» без всякой негативной окраски. Надо сказать, на «black» (черный) англоязычные черные обычно не оскорбляются — эта формулировка считается нейтральной. Ну ведь черный же, не белый, в самом деле.
