Рецензия на роман «Аэд Эллады-1. Завещание фараона»
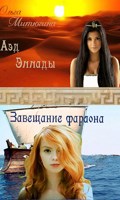
РЕЦЕНЗИЯ НА РОМАН ОЛЬГИ МИТЮГИНОЙ «АЭД ЭЛЛАДЫ. ЗАВЕЩАНИЕ ФАРАОНА».
Общее впечатление о книге. «Завещание фараона» – книга, открывающая большой цикл «Аэд Эллады». Собственно говоря, она является приквелом к нему, но приквелом абсолютно необходимым, поскольку проливает свет на личности и характеры многих героев основного цикла, среди которых есть фигуры исторические и общеизвестные. И при этом, замечу от себя, весьма и весьма неоднозначные. По крайней мере, с точки зрения потомков.
Но речь здесь идёт не о величии одних или низости других, которыми «традиционно положено» восхищаться или ужасаться. Динамика романа такова, что восхищаешься или ужасаешься происходящим событиям, волнуешься за героев, а вопрос о «роли личности в истории» как-то незаметно отходит на второй план. Об этой роли помнишь, читая, но эта роль будет сыграна когда-нибудь потом, а грозящая опасность – уже здесь и сейчас. И к тому же по другую сторону не просто враги, а тоже личности, у которых в истории своя роль, и ответ на вопрос «кто кого?» зачастую определяется отнюдь не симпатиями читателей или даже автора. История – она такая. Даже альтернативная.
Но для меня (и, думаю, для многих других читателей тоже) вот эта «настоящесть» героев (не как будущих великих мира сего, которым будут оды посвящать, а как спешащих к свободе или на помощь, любящих и ненавидящих, а следовательно – живых) – еще один плюс в огромном списке достоинств этой потрясающей книги.
Герои и достоверность. Странный, наверное, пункт, но, на мой взгляд, его наличие полностью оправдано жанром произведения. Тут есть элементы альтернативной истории, фантастики и мифологии. Впрочем, мифология – тоже история, когда речь идёт о периоде немного до и во время Троянской войны. О ней мы знаем по поэмам Гомера, (которые послужили первоисточником для всех позднейших авторов). Самого Гомера при этом у нас многие полагают никогда не существовавшим, да и Трою считали мифом, пока она не была обнаружена. Не с первой попытки, правда, но это, согласитесь, уже проблема Шлимана, а не Гомера. А если Троя реальна, то что нам подсказывает формальная логика в отношении Гомера?
Впрочем, это был бы уже слишком большой спойлер, тем более что «Аэд Эллады», как открыто заявляет автор, история всё-таки альтернативная, а время там идёт немного не так, как диктует привычная нам историография. Агамемнон, например, правил не в Микенах, а в Афинах, причем жил в одно время с царицей Египта Нефертити и воевал с Персией. Но автор книги – сама историк, и обо всех этих расхождениях предупреждает именно она. Так что с этой точки зрения всё непротиворечиво. С учетом фантдопущения, разумеется.
Для чего вообще пишут книги в жанре альтернативной истории? Не стану утверждать со всей определенностью, но всё же считаю, что делается это для того, чтобы посмотреть, «что изменилось бы, если бы…» И в этом смысле что может быть интереснее, чем проследить за историей столкновения интересов Греции и Египта в момент, когда у руля обоих государств стоят лидеры ТАКОГО масштаба? Принципиально здесь то, чтобы и лидеры, и страны остались собой по своему характеру и историческим целям, а уж здесь элемент достоверности автор обеспечивает.
Ещё один момент. Никаких сведений об Агниппе, царевне Египта, история не сохранила, но это вовсе не удивительно, даже с позиций обычной, а не альтернативной истории. Судьба Агниппы сложилась так, что великая царица с огромной степенью вероятности могла бы отдать приказ стереть имя собственной сестры из истории. И приказ этот был бы выполнен, потому что… посмотрел бы я на того, кто рискнул отказаться!
Так или иначе, теперь несколько слов о сюжете «Завещания фараона».
«Рыжий, рыжий, конопатый…» Знаменитая присказка, смешащая у нас не одно поколение детей и взрослых, для древних египтян звучала совсем не смешно. И веснушки здесь совсем ни при чём: достаточно волос, рыжих, как у злобного бога Сетха. А уж каковы будут последствия, зависит от… Иногда это зависит от воли человека, которого все вокруг считают богом, человека, приказу которого никто во всём Египте не посмел бы перечить. Твоего собственного отца. Пожелай он – и цвет волос его дочери никого бы не обеспокоил, тем более что матерью царевны была афинянка. Но что, если великий фараон решит иначе? Если он напишет в дополнении к собственному завещанию:
«Мы, Аменхотеп III, блистательный сын бога Солнца Ра, прежде чем присоединиться к отцу Нашему Осирису в справедливейшем из миров, пишем это дополнение к завещанию, дабы через жрецов, буде в том возникнет надобность, объявить волю Нашим детям: сыну Нашему, царевичу Аменхотепу, и дочерям нашим, царевне Неферт и царевне Агниппе. Ибо дыхание прерывается у ноздрей Наших от тревоги за судьбы великой Та-Кем, и сердце не позволяет Нам предстать перед судом Осириса, не выполнив долг властелина обоих Египтов.Итак, по завещанию престол переходит к дочери нашей, царевне Неферт, вместе с титулом Царицы и Владычицы Египетской, Нефертити, а также супругу её, господину и наставнику, сыну Нашему, царевичу Аменхотепу, вместе с титулом Фараона и Владыки Египетского, Аменхотепа IV. Младшая же дочь Наша, царевна Агниппа, должна жить одиноко и уединённо, и не имеет права замужества прежде рождения сына-первенца у Аменхотепа и Нефертити. Когда же родится сын, тогда Агниппа может выйти за кого пожелает, с согласия брата своего и венценосной его супруги. Если же первой родится дочь, то, дабы не ввергнуть Нашу страну в пучину раздора, царевна Агниппа лишается всех прав на престол Наш и должна быть принесена в жертву Осирису, ибо надо лишать все творения Сетха даже возможности творить смуты и зло, а известный признак бога Зла и его служителей – рыжие волосы.
И да будет так».
И почти так всё и было в последние несколько лет перед моментом, с которого, собственно говоря, и начинается действие романа. Царевна Агниппа жила одиноко и уединённо, а вопрос о том, кто живёт во дворце на самой окраине Фив, успел уже превратиться в одну из загадок египетской столицы. Неразрешимых загадок. И что с того, что сама царевна знать не знала о дополнении к завещанию отца, а роскошью её дворец не уступал дворцу фараона: золотая клетка остается клеткой, а «личная гвардия» царевны остаётся охраной, которая на деле подчиняется лишь солнцеподобной царице Неферт, нарушить приказы которой не страшится лишь само солнце.
Впрочем, когда у царицы Неферт родилась дочь, нарушить её приказ, пока ещё не отданный, но абсолютно неизбежный, осмелился и человек, возможно, единственный во всём Египте, кому небезразлична была судьба обречённой на смерть Агниппы. Мена, в былые времена друг и лучший лазутчик фараона, а ныне – советник Агниппы. Когда-то именно он привёз в Египет мать царевны и… И с тех пор, видимо, не раз жалел, что Электра оказалась во дворце и на ложе фараона. Автор лишь намекает на то, что за чувства испытывал Мена к Электре. Горьки, особенно сейчас, мысли Мена о том, что, сложись всё иначе, Агниппа могла бы быть его собственной дочерью. Но именно как к дочери он к ней всегда и относился, при этом фактически заменив Агниппе отца. И вот теперь – кто, как не он, отважился бы рискнуть всем – и хотя бы попытаться спасти обречённую девушку? А до того – открыть ей глаза на происходящее, дав прочесть то самое дополнение к завещанию отца?
« – Ну вот, жизнь и расставила всё по местам… – прошептала Агниппа.
Как ещё могла бы сказать дочь Электры?.. Старик невесело усмехнулся, вспомнив белокурую синеглазую девушку, воздушную, как порыв ветра.
Бесконечно терпеливая и покорная. Возможно, это её и сгубило.
– Подобает ли так говорить дочери фараона?.. – строго спросил он. – Пусть отец не любил тебя, но ты его дочь. Ты воспитана на ступенях трона. В тебе кровь владык Египта. И ты собираешься взойти на жертвенник, как бессмысленная лань?
Агниппа медленно обернулась. В глазах её затеплилось нечто, похожее на надежду.
– А у меня есть выбор?
Мена невольно улыбнулся. Пламя в кадильницах всё так же ровно вздымалось и опадало…
– А как ты думаешь?..».
Бежать! Бежать в Элладу, на родину Электры!
С этого момента жизнь Агниппы и Мена превращается в почти непрерывную гонку на выживание. Мена не зря лучший лазутчик прежнего фараона: опыт и знания при нём, да и хитрость – хорошее приложение к силе. Проблема в том, что и у Нефертити ум государственный, и, пока её муж поглощён мыслями о будущем утверждении культа Атона, всеми «светскими» делами государства руководит именно царица. И она знает всё. Знает, что именно Мена – тот единственный, кто мог содействовать побегу Агниппы, знает, куда именно и, по сути, даже каким именно путём они попытаются бежать. И Мена, в свою очередь, знает, что запас времени у них – ровно до того момента, пока солнцеподобная царица не восстановит силы и не отдаст приказ расставить ловушки. А когда приказ отдан…
«Всадники перевалили через вершину холма, и столица Египта скрылась из виду.
– Мы свободны!.. – крикнула царевна навстречу ветру и, отпустив повод, галопом пустилась вниз по склону, раскинув руки и смеясь от счастья.
– Да не совсем, о царевна! – в тон ей крикнул советник и пришпорил своего скакуна, догоняя девушку. – О пресветлая, мы только потеряли из виду Фивы.
– Это добрый знак, Мена! Теперь нам надо съехать с дороги и свернуть в пустыню, ведь верно? – живо обернулась к старику Агниппа. – И никто никогда не догадается, что мы сделали!
– И никто не найдёт наших костей, – с самым серьёзным выражением лица кивнул бывший лазутчик фараона. – Их обглодают шакалы и грифы».
И ведь эта опасность – далеко не единственная. Люди страшнее. Умные и наблюдательные враги – при этом знающие, что их ждёт, если они не исполнят приказ солнцеподобной. Они всегда рядом. И их не обманет отсутствие главной приметы «преступницы» (с компрометирующими Агниппу волосами она рассталась без сожаления). А уж распознать девушку под личиной юноши способна и наблюдательная крестьянка. Она, впрочем, помнит добро и не столь «сетхобоязненна», как фараон, который, между прочим, по собственному мнению, сам являлся сыном Ра, да и Осирису тоже близкий родственник! (Да, к отцу Агниппы у меня совершенно особое отношение, от которого Аменхотепа III не спасает и божественное происхождение, но в великом и могучем русском языке всё же нет слов, которые могли бы это отношение выразить, а языка фараонов я, к сожалению, не знаю).
Как бы то ни было, еще одно хорошее (и спасительное) для Агниппы и Мена обстоятельство – это совершенно особый национальный характер финикийцев, перед которым пасует даже угроза гнева Нефертити и будущей войны с Египтом. И это ни в коем случае не подыгрывание автора своим героям, ибо та черта финикийского национального характера, о которой я сейчас говорю, была печально известна на весь Древний Мир.
Но и со сменой места действия жизнь беглецов не становится легче, потому что погоня продолжается, а успех её для царицы Египта столь важен, что она сама возглавляет посольство, отправляющееся в Тир, столицу «независимой, но не очень» Финикии, – и для её царя аргументы Нефертити оказываются сильнее его собственного «национального характера».
От себя замечу, что аргументы эти воистину неопровержимы, а сама царица и в этой сцене, и во всех других со своим участием просто великолепна. Истинно великая царица, хотя и главный антагонист! И именно поэтому волнение за Агниппу и Мена с каждым прочитанным абзацем лишь нарастает, независимо от того, читаешь ли книгу впервые или перечитываешь (не впервые). Просто – это ты сам слышишь за спиной свист отравленных стрел, отправляя коня в отчаянный прыжок (почти полёт) над головами ошалевших от неожиданности египтян, и это тебя уносит в бескрайнее море корабль, который…
Впрочем, это уже спойлер, которых выше и без того было немало. И в который рискует превратиться вся эта рецензия, если я, в самом буквальном смысле, не наступлю на горло собственной песне.
Скажу только, что царь Агамемнон, возвращаясь спустя два года после описанных выше событий домой с победоносной войны, был немало удивлён, став свидетелем довольно необычного (и весьма забавного) зрелища: молодая девушка, одна-единственная в толпе его подданных, так отчаянно старалась не поклониться царю, что… едва не поклонилась в обратную сторону!
«А царь… Царь, увидев ее на площади, и удивился, и развеселился, и почувствовал любопытство. Проехав агору и скрывшись от глаз толпы за воротами акрополя, он кивком подозвал к себе одного из своих людей – первого советника, Ипатия.
Высокий темноволосый молодой человек, ровесник царя, тут же толкнул коленями своего коня, заставив его поравняться с белоснежным красавцем Агамемнона.
– Скажи-ка, Ипатий, что это за странная девушка сейчас была на площади? Я не встречал ее раньше в Афинах.
– Ничего удивительного, о царь, – позволил себе улыбнуться советник. – Афины огромны, а судя по одежде этой девушки, она обычная горожанка. Конечно, ты не мог встречать ее среди знатных девиц нашего круга.
Атрид помолчал.
– Красивая… – наконец с задумчивой улыбкой проронил он.
– Царь желает, чтобы ее доставили к нему ночью? – тут же угодливо поинтересовался Ипатий.
Лицо Агамемнона мгновенно посуровело.
– Нет! – резко ответил он. – Как такое могло прийти тебе на ум? К моим услугам три гарема персидских военачальников! Но посягнуть на честь свободной, на честь моей подданной… Неужели ты на такое способен?
– Прости, государь! – Ипатий живо склонил голову в подчеркнутом раскаянии. – Я сказал не подумав. Но тогда что же ты хотел приказать мне, спрашивая об этой девице?
Атрид усмехнулся уголками губ.
– Да по большому счету ничего… Просто мне стало любопытно, кто она такая. Знаешь, чтобы не поклониться царю, тем более на глазах сотен людей – на это нужна храбрость. И если бы поступок не был глупым, я бы восхитился ею, Ипатий! Итак, узнай, кто она, где и с кем живет, афинянка или чужеземка… Ступай. Вечером жду тебя с докладом.
Ипатий поклонился в седле, развернул коня и галопом помчался на агору».
Но снова увидел эту загадочную незнакомку царь Агамемнон вовсе не благодаря, а скорее вопреки стараниям Ипатия. И сам Агамемнон, без сомнения, сказал бы, что в скромный домик на окраине Афин его привела судьба. И вовсе не как грозного монарха, а как…
Впрочем, я ведь только что обещал, что спойлеров больше не будет. Скажу лишь, что история египетской царевны, ставшей обычной афинянкой, лишь в самом разгаре. Так же, как и история Агамемнона, будущего великого полководца.
И… знаете… Что бы ни довелось мне в будущем услышать или прочитать об Агамемноне, я, во всяком случае, не поверю в образ жесткого и безжалостного царя и полководца, беспрестанно обижающего «бедного и беззащитного» Ахиллеса. Потому что перед глазами у меня всегда будет стоять образ Атрида, которого старая Фелла ласково называла Агиком и который так удивил Мена своей любовью к каше. А каша и вправду была очень вкусной, потому что… тут мог бы быть спойлер… в который уже раз.
В общем, читающий да прочтёт. И да узнает ещё многое о героях, их характерах и мотивации. И поймёт, почему всё сложилось именно так, а не иначе. Автор не играет со своими героями в поддавки, не расставляет засадные полки там, где их нет, и не позволяет элементу «альтернативности» превратить историю (ну или мифологию, что в данном случае одно и то же) в сказку. Во всяком случае, испытание цельности характеров и логичности поступков герои «Завещания фараона» с честью выдержали, а это именно то, чего я всегда ищу и жду от любой прочитанной книги любого жанра.
И все же – есть в этом романе ещё один образ, который просто не мог, на данном этапе повествования, быть прорисован иначе как штрихами. Но какой это образ – и какие штрихи! Их всего два, но читатель уже замирает в священном трепете, понимая, что что-то грядёт. Что-то, что вполне могло быть предсказано в одной из недошедших до нас Священных Книг. Так или иначе, дамы и господа, знакомьтесь и трепещите: наследница трона Та-Кем, царевна Бекарт!
«Девочка тем временем поудобнее устроилась в кресле. Ее личико не выражало ни страха, ни беспокойства – лишь любопытство и чистое, невинное детское предвкушение увлекательного представления, праздника.
– Мам, – негромко позвала царевна. – А это будет так же, как тогда того осла, начальника… ну… должность забыла… так же, как тогда его живым в клетку к голодным львам бросили? Или интереснее?
– Бекарт, – строго нахмурилась, повернувшись к своей четырехлетней дочери, царица. – В наказании подчиненных нельзя видеть развлечение. Наказывать следует для дела и за дело, а не ради собственной прихоти.
– Но, мама! Это так весело! – изумилась девочка. И засмеялась: – Они же так кричат, бегают… Так забавно! И ради чего?.. Все равно это закончится одним!
– Мне не нравятся твои слова, Беки, – покачала головой Нефертити. – Ты еще слишком мала, чтобы быть такой жестокой.
– Разве это жестоко, мама?.. – поразилась малышка. – Я никогда об этом не думала… Но ведь ты сама!..
– Я наказываю за дело. И не вижу в этом ни развлечения, ни удовольствия. Смертная казнь тем и страшна, что должна применяться редко, только тогда, когда вина человека действительно велика. Иначе твои подданные начнут относиться к ней как к должному и в конце концов, отчаявшись и потеряв страх, восстанут.
– Восстанут?..
– Их ощущение страха притупится.
– Ощущение притупится?! – Бекарт подалась вперед, глаза ее расширились и заблестели, ноздри тонко очерченного носа затрепетали. – О-о нет, мама! Это ощущение никогда не сможет притупиться! Крики жертвы, залитый алым песок на арене… особенно здорово, когда лев прокусил артерию и кровь бьет толчками, в такт сердцу! Судороги, агония, пена на губах, мучения… Разве может это надоесть?!
Нефертити откинулась на спинку кресла, с изумлением и долей страха глядя на свою маленькую дочь».
Потрясающий диалог, не правда ли? А ведь Бекарт здесь всего четыре года!
Что ей ещё суждено совершить, ведомо лишь автору, а мне… мне просто искренне жаль Древний Египет!
Теперь несколько слов об атмосферности романа. Впрочем, к чему слова, когда с первых строк книги читатель слышит песню пустыни, приветствующей восходящее солнце! А какова, например, гроза! Нам это природное явление привычно, но даже в нашей культуре она символизирует нечто грозное и неотвратимое. Как минимум, грозное предостережение. А теперь просто представьте: гроза в Египте, стране безжалостно палящего солнца…
«Солнце клонилось к вечеру, и от барханов протянулись длинные густые тени.
Усталое разбухшее светило медленно валилось за Нил.
Чёрной грозной тучей шёл на Египет мрак – тяжёлый и непроглядный. Мена с удивлением всматривался в эти странные сумерки, вслушивался в их поступь… Они заполнили всё небо, лишь далеко у заката ещё горело больное бледное зарево.
И над миром грохнул глухой мощный раскат.
Небо расколола огненная трещина.
И землю с небесами сшил холодными нитями ливень…
Вода хлестала, превращая песок в грязь, и ветер порывами нёс струи над встревоженным Нилом.
– Боги, что это?!
Мена смеялся, запрокинув голову и подставив лицо яростным потокам, ловя на ладони стремительные капли.
– Мена, что это?! – снова крикнула Агниппа.
– Дождь! – наконец сквозь смех ответил советник. – Как же это здорово, девочка!
– Мне страшно!..
– Брось! Обычная вода, – Мена обернулся к девушке, изумлённый и радостный. – Это невероятно, дождь над Египтом… В первый и последний раз я видел его в долине Нила много лет назад, ещё мальчишкой. И тогда тоже, конечно, очень испугался… – Старик весело хмыкнул. – А вот потом, в Хеттском царстве и в Греции, мне не раз доводилось промокать до нитки. Добрый знак, о царевна!
Девушка придержала повод коня.
– Мена, я должна вернуться… Я должна взойти на жертвенник. Это гнев Осириса!
– Осирис не повелевает дождём, – коротко возразил Мена, тоже останавливаясь. – Не говори глупостей, девочка.
– Откуда взяться здесь туче? – бледная как тень, прошептала беглянка. – Это чудо, явленное богами. Они разгневаны!
– Вздор! – разозлился старик. – Дождь, конечно, принесло с Тростникового моря или с Великой Дуги.
– Темно, как в полночь! Туча закрыла даже лик Амона!.. – уже не владея собой, кричала девушка. У неё начиналась истерика. – Боги отвернулись от меня!!
Мена влепил ей крепкую затрещину.
Агниппа схватила ртом воздух и умолкла на полуслове.
– Это. Просто. Гроза, – чеканя каждое слово, жёстко произнёс воин. – Если же тебе так хочется видеть какое-то знамение в дожде, то подумай вот о чём. Верховный бог эллинов, Зевс, повелевает молниями. Не он ли посылает тебе знак, что Эллада ожидает тебя? Так что оставь сомнения! Твой выбор сделан».
Как же всё-таки повезло Агниппе, что рядом с ней оказался именно Мена, столь многое видевший в своей долгой жизни! Царевна и сама сильная и смелая, но ГРОЗА В ЕГИПТЕ! Увидеть в ней добрый знак, да ещё и логично это обосновать мог только Мена. Осирис не повелевает дождём, да. И не повелевает судьбой Ангиппы! Переломный момент – и при этом атмосферный настолько, что и читателю впору вздрогнуть от очередного громового раската, а открыв зажмуренные после особенно яркой вспышки глаза, оглядеться в поисках укрытия. Одинокого домика на обрыве, например…
И ведь такой момент далеко не один. Читая, на протяжении всей книги почти физически присутствуешь там, рядом с героями, воспринимаешь и испытываешь их эмоции – и свои собственные, порождённые отношением к ним. Например, лично мне Аменхотеп III ничего плохого не сделал, но с Агниппой поступил вопиюще несправедливо, и относиться к нему без некоторого предубеждения мне… трудновато. Или в Агамемноне не видеть весёлого и в чём-то бесшабашного Агика…
В целом же хочется сказать огромное спасибо автору за возможность побывать в Древнем Мире, почувствовать дыхание и ритм жизни эпохи, такой далёкой, но всё же близкой благодаря книге.
Конечно же, в немалой степени этому способствует язык и стилистика повествования. Его темп, ритм, мелодика, используемые метафоры – всё соответствует эпохе и происходящим событиям. Если египтяне и греки мерили, например, расстояния схенами, парасангами и стадиями, то читатель «Завещания фараона» не будет вынужден совершить мгновенное обратное перемещение в наше собственное время, наткнувшись на «километры» или «мили». Иногда рассказ течёт неспешно, как спокойная река, а порой – ускоряется до максимально возможного предела, когда враги совсем рядом, а секунда промедления может стоить жизни. Или когда этой секунды катастрофически недостаёт. Все чувства, эмоции, действия героев – и читателей тоже, – все пейзажи, звуки и запахи (да, даже они) порождены умением автора владеть словом, вызваны к жизни литературным талантом и мастерством.
А в результате… В результате, читая, я побывал в Древнем Египте, Финикии и Элладе, чего и всем другим советую и рекомендую. А сколько всего интересного ещё ждёт нас впереди, ведь это только первая книга большого цикла!
