Рецензия на роман «Шварце муттер»
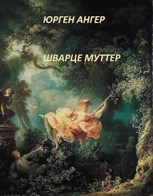
Полноценной рецензии на эту книгу, к сожалению, не получится. Во-первых, жанр исторического авантюрного романа - не мой вообще, во-вторых, в эротической составляющей, которая играет здесь важную роль, я понимаю ещё меньше, чем в российской истории. Поэтому оценить все грани текста не выйдет. Отчего же я вообще взялась читать книгу, которая никак не совпадает с моим обычным кругом чтения? О, это самое интересное. Здесь есть стиль - и стиль роскошный. Полагаю, я с не меньшим удовольствием прочла бы дамский роман, ЛитРПГ или, страшно сказать, совершеннейший реализм, будь они изложены столь же прекрасным языком.
Впрочем, этот роман тоже вполне реалистичен. Да, и в жанрах, и в тексте заявлена мистика, но на сюжет она, собственно говоря, не влияет. Более того - в кои-то веки мистическая составляющая показалась мне совершенно ненужной.
Одна из сюжетных линий разворачивается вокруг "чёрной" иконы Богоматери, о которой в аннотации сказано:
Увы, не все знают, какой ценой исполняет желания черная богиня - польская ли Матка Бозка, или японская Черная Каннон, или же гаитянская Эрзули Дантор.
Сопоставление разных религий интересно само по себе, но в контексте восемнадцатого века оно выглядит натянутым. Если польская чёрная мадонна вписывается в старый российский быт органично, то синтоизм и вуду в нём чужеродны. Да и вправду ли исполняет желания эта икона? Сомнительно, недаром же её обладатель, Иван Трисмегист - достойный последователь Гермеса, плут и вор.
Точно так же недостоверными, хотя и очень интересными, выглядят все эпизоды, связанные с магией вуду. На сюжет они никак не влияют, кроме последнего, в котором дух ведьмы предупреждает героя об опасности. Но и этот момент не так уж важен. А дух, именуемый в книге банши, вызывает слишком много вопросов. Здесь опять идёт скрещение мифологий, поскольку этот банши был, так сказать, изготовлен вудуистским методом. К тому же непонятно, для чего ведьме превращаться именно в банши - так себе посмертная судьба, если честно...
Словом, мистика меня не впечатлила совершенно. А вот если от неё отвлечься...
В романе - масса интересных героев, причём даже второстепенные с первого взгляда не раскрываются. У них - двойное дно. Замечательные подробности быта, бог его знает, действительные или придуманные. Но когда автор описывает ледовую горку для царских катаний, установленную под балконом, и упоминает резные борта, о которые придворные сбивают сапоги, в это веришь. И таких деталек в книге полным-полно.
А описания? Яркие, точные, сдобренные метафорами, они двумя-тремя предложениями создают и облик, и характер персонажа:
Под своим капюшоном был он весел, румян, словно блином умыт, и белые отросшие волосы нежно осеняли его голову и щеки – как пух на утенке, видать, с дорожными заботами монах позабыл побриться. Глаза католик имел самые плутовские, и говорил высокой темпераментной скороговоркой, словно был не монах, а, например, барышник.
Стилизуя язык под речь восемнадцатого века, автор пользуется инверсиями, но не злоупотребляет ими, чувствуя меру:
Яков легко шагал по снегу в рассветной мгле, и колокола переливались малиновым звоном – в такт бряцающим медицинским инструментам, в его саквояже. Снег играл голубыми искрами, масляно бликовали в первых лучах церковные луковки – жизнь новая начиналась. И разве что вороны проклятые каркали – но на свои же головы, на свои…
О стилизации хочется сказать отдельно. Естественно, использовать реальный язык того времени было бы нереально, это сделало бы роман совершенно нечитаемым. Поэтому автору пришлось решить непростую задачу, балансируя между понятностью для современного читателя и воссозданием атмосферы восемнадцатого века. Этот эффект достигается минимальными средствами: теми же инверсиями, очень умеренно употребляющимися устаревшими словами и заимствованиями из французского, немецкого и голландского, плюс небольшим замедлением темпа речи. В результате получился очень красивый и выразительный язык, несомненно, вызвавший бы нарекания историков, но вполне способный убедить читателя, что события романа происходят в прошлом.
К сожалению, есть отдельные проколы. К примеру, здесь:
– Вот ты с кем снюхался! – восхитилась дама, – Ай, молодечик! И не хлопнут меня у вас в катакомбах, Ивашечка? Всю такую богатую и беззащитную?
"Всю такую" - слишком уж современный оборот, как и "мажоры", всплывшие где-то в тексте. Была ещё пара мест, которые меня царапнули, но, каюсь, зачиталась и не выписала.
Словом, книга вышла красивой. И я с большим интересом почитала бы комментарий к ней человека, сведущего в истории, чтобы оценить работу автора и в этой области.
