Рецензия на повесть «Чернее»
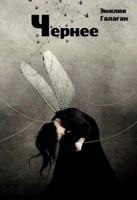
Мешок #42. Портрет темноты
Главная ее, мемуарной литературы, беда, как я говорил, заключается в том, что далеко не каждый способен рассказать о своей жизни интересно. Волнующе. Заставляя читателя тоже раскинуть мозгами на эти темы. А такой редкий жанр, как бытовой роман – описывающий просто жизнь, как правило, в неком философском разрезе – и вовсе существует как привидение. Вроде бы он есть, но является не всем и от силы пару раз в жизни. Странно как-то – люди любят подглядывать за чужой жизнью, отсюда успех разных кретинских шоу вроде пресловутого Дома-2, передач о звездных сплетнях. Но ни писать, ни читать об этом не получается. В этом мешке у нас бытовой роман Эмилии Галаган «Чернее».
Наверное, логичнее было бы отнести эту книгу к жизнеописаниям (третье подряд! Похмелюк, ерш твою медь, ну почитай уже других поэтов, про дракончиков, отборчики там, полотенчики. Нет. Похмелюк такого не читает), но мне она кажется скорее бытовым романом. Про жизнь. Простые бытовые картинки, сами по себе наталкивающие на размышления, на «что делать и кто виноват, и что я где делаю не так».
Суть, соль и мякотка сего сказа не в том, что он – о каких-то волнующих всех и каждого вещах, нет, это бытовой роман из бытовых. Если отложить в сторону такие неотъемлемые вещи, как свадьбы и похороны, то там просто нет событий крупнее пьянки. Дело в ином: о каких-то совершенно незаметных, казалось бы, вещах, Эмилия пишет вкусно. Ярко, образно, яростно. Но об этом позже.
Начав книгу как типичные мемуары, почти сразу автор выводит взор читателя с описаний на рефлексию. Мила рефлексирует везде и по каждому поводу. Не очень-то частое для книг явление. Нелюбимое многими читателями, особенно теми, что приходят сюда за популярной здесь литературой (или, сказать точнее, сетературой). Автор пишет намеренно популярное – это сетература, так как он делает это как бы на заказ, пытаясь удовлетворить спрос публики. А вот когда идея и сюжет у него созрели независимо от таких вещей – это уже совсем другая история. Но не будем сбиваться с курса, пойдем далее.
Все эти внятные, четко ограниченные началом и концом бытовые картинки – с сарафаном, с тетей и дядей, с извращенцем на улице, с хором, попойками с подругой, кошкой-засранкой – каждая наталкивает на размышления конкретного рода, каждая что-то иллюстрирует. Писать нудный список впечатлений от каждой из них, конечно же, я не собираюсь. Тем паче что эта история – очень субъективного восприятия. Она дана читающей публике для самостоятельного разбора, осмысления и понимания, а не для шаблонного сочинения про силу воли и патриотизм, за которые в случае их представляемого отсутствия влепят двойку. Такая, знаете ли, книга-конструктор, сделай сам и сам сломай. Ничего образцово-показательного. Детство героини пришлось на девяностые, то есть оно по определению не могло быть безоблачным – и верно: бедность, извращенец, болезнь мамы подруги, собственные семейные проблемы – все накладывается, наслаивается друг на друга, формируя этот Портрет темноты. Картину, написанную в серо-коричневых тонах. «Я не видел картины дурней, чем шар цвета хаки!» - тут, конечно, не хаки, и сама картина получилась не дурной, но, несомненно, печальной.
Мила не ломается, принимая эти послания, не рвет волос и не бьется головой об стенку, молчаливо позволяя им формировать свою личность – и попутно размышляя на разные темы. От звезд до мусорного ведра. Это не шутка, в конце книги есть именно такой набор предметов для размышлизма. Поводы поразмыслить ей постоянно подкидывает сама жизнь, причем поводы невзрачные, бытовые. Как то же ведро.
Хотя повествование книги строго линейное, она кажется лоскутной из-за – опять же, скопированного с самой жизни, и довольно точно скопированного – прыганья повествования с философской темы на бытовую и назад. Что позволяет книге очень легко «проскочить» в голову: наши мозги на самом деле привыкли именно к такому порядку подачи информации. Вот у тебя суп убежал, это бытовуха, а в процессе чистки штиблет – тоже бытовуха – ты попутно подумал о странной человечьей сути: все любят красивенькое, даже если по более важным качествам оно хуже, и предпочитают его неказистому – это уже философия, и ты, напялив штиблеты и выйдя во двор, сразу же ловишь на него белую голубиную кляксу и, проклиная все на свете, ползешь назад ее ликвидировать, закатив пластинку на тему «все не так, почему?» - опять философия. Я в жизни позволяю себе несколько обесценить это понятие, оторвать от одних лишь полок с трудами классиков и спустить с небес на землю, в тыкву обычного Феди, рабочего в мастерской, льющей садовые фигуры из полистоуна – ведь если он размышляет об этом, пусть не как Кант, а как умеет, получается, он тоже уже немного философ, верно? Хотя это, наверное, простая «житейская мудрость» (и тут я вспомнил Юльку Камелину из своих собственных опусов, которая тоже очень-очень хочет знать этот мир и уметь им вертеть – не из корыстных побуждений, а просто чтобы можно было). Неважно, с терминологией разберемся еще. Суть ясна: взрослея и учась жить, героиня книги не брезгует никаким подкинутым жизнью учебным пособием. Даже если это помойное ведро с прилипшими к днищу вонючими рыбьими кишками.
Эта книга, ясно показывающая вечный, само собой разумеющийся, но не бросающийся в глаза симбиоз «высокого» и «бренной бытовухи», по мне, заслуживает звания эталона бытового романа. Это не просто мемуары. Книга написана вразрез со всеми неписаными законами жизнеописательного жанра, жизненно значимые события вроде защиты диплома или первого свидания выведены за скобки, зато очень подробно рассказано про свечку в сортире, разрисованную куклу, медведя Аполлона, про претензию мамы – одеваешься как пугало и в храм не ходишь, вот и сидишь одна, - которую, кстати, Мила никак не привлекает в качестве руководства к действию и продолжает одеваться «как пугало» и не ходить в храм. Правильно, в общем-то, делает. Я тоже в храм не хожу. Мне вообще непонятно это стремление христианского духовенства дистанцироваться от паствы, которую оно параллельно стремится привлечь в свой храм. Эти огромные нагромождения правил и предписаний, в духе «тут не стой, руками не маши, не так крестишься, не так одета», как по мне, любого вменяемого человека могут только оттолкнуть, он чувствует, что находится на чужой территории, с другими законами и понятиями. Что вот тут вот – высокое и духовное, а тут – низкое, бренное, бытовое. Нет. Молились бы в лесах, как марийцы – и не было бы, наверное, такой проблемы. Но ладно, что-то я опять с темы съехал. Книга все-таки не о храмах. Да мне и так бы нечего там было делать – я агностик.
А к чему я эту церковную тему вытащил-то? Да к тому, что все эти области сплавлены. Высокое и духовное гораздо ближе к бренному и бытовому, чем принято считать. А бренное и бытовое, соответственно, к высокому и духовному (не люблю я вообще это слово – болезненно религиозные товарищи запороли ему всю карму, заляпали всю репутацию на много лет вперед). А где сплавлены? В человеке. Просто в самом человеке. Даже если в нем так много черноты. Не в смысле каких-то негативных качеств или устремлений, нет, той черноты, что зовется печалью, холодом. Кстати, о холоде. Холодные люди были мне всегда интересны. Но Мила такой не стала, несмотря на все свои разочарования, проигрыши, синяки и шишки. И даже пытается еще хоть как-то повлиять на этот пропащий мир, не дать художнику залить черной краской всю поверхность холста. Она сохранила нормальную женскую чувственность, и, наверное, что-то у нее получится. Хотелось бы верить.
Оценка по критериям:
Слог и стиль автора: 12/12. Это лишь вторая книга с такой оценкой по этому критерию. Вкуснейший, легчайший, живой слог – как будто я стою рядом и подглядываю за всем, что происходит, из-за отодвинутой шторы. Опечаток буквально пара штук на 3 авторских листа текста.
Сюжет: неоцениваемый критерий (сквозной сюжет отсутствует).
Проработка персонажей: 12/12. Они стоят рядом, и этим все сказано. Даже те, кто появился пару-тройку раз. Возможно, дело в том, что Эмилия описывает их опять же вразрез с требованиями стандартов писательского мастерства. Она не напишет, кто такой Егор Петрович, какое у него образование, сколько лет, сколько детей и на какой машине ездит. Она напишет про капилляры у него на кончике носа, про рыхлость фигуры и густой голос (это пример, если что). Казалось бы, ничего о человеке, персонаже, не знаешь, а вот поди ж ты – вот он! И, наверное, в этом методе что-то есть, в пику нудному описанию биографий. В жизни мы тоже видим сначала капилляры на носу, а уж потом машину и диплом – причем последнее можем и не увидеть.
Социально-культурная ценность: 12/12. У нас не так-то много книг об искусстве жить (пусть даже так, как героиня этой книги – вопрошая, зачем в ней так много печали), чтобы можно было не выделять их высокой оценкой из книг, которые жить учат постольку-поскольку или не учат вообще.
Обложка и аннотация: 12/12. Аннотация как таковая отсутствует. Вопрос: а нужна ли она вообще здесь? Полагаю, что и без нее все нормально. Пару баллов все же хотел снять, но, поразмыслив, решил, что этот формализм здесь не нужен.
Общая оценка после округления: 12/12. Книга великолепного качества. К прочтению строго рекомендуется – если, конечно, вас интересуют не одни любовные романы.
Июнь 2019 г.
