Рецензия на роман «Играя с Судьбой том 2»
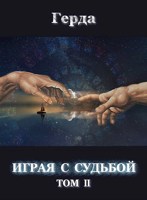
«Психоистория была мощнейшим средством изучения законов жизни общества. Она не давала возможности предсказать судьбу отдельного человека, но позволяла с помощью математического анализа и экстраполяции предвидеть действия больших групп людей»
Айзек Азимов, «Основание и Империя»
«… смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе»
Джон Донн, «Обращения к Господу»
«Для таких, как мы, бродяг,
Свежеструганные доски,
Занавески на гвоздях.
Мы бродячие артисты,
Мы в дороге день за днем…»
ВИА «Веселые ребята»
Какие мысли и образы у вас возникают при прочтении названия тетралогии «Играя с Судьбой»? О бесшабашных баловнях судьбы, рискующих, но всегда выигрывающих? Или о покорителях неизведанных планет, на первый взгляд непригодных для жизни, но таящих в своих недрах бесценные ресурсы? А может, о великих политиках и полководцах, которые, словно кости на стол, бросают вызов Судьбе, надеясь на ее милость? Отчасти, в этой книге есть все это — но только отчасти. На самом деле в книге говорится о том, что даже стоя на самом краю жизни нельзя терять надежды — на избавление, на возмездие, на счастье, на свободу. Иногда спасение может прийти оттуда, откуда совсем не ждешь, а жизнь обретет смысл совсем не в том, к чему ты стремился, а все потому, что карты наших жизней тасует ее величество Судьба. В мире, с которым мы познакомимся на страницах книги, этот закон стал аксиомой, и любой отчаявшийся может бросить вызов в «игре с Судьбой», поставив на кон собственную жизнь. Проигрыш ведет к гибели, но и отказ от игры ведет к гибели, потому к ней прибегают только разуверившись во всем и в самом крайнем случае. Зато победитель — любимец Судьбы — становится любимцем сильных мира сего, их талисманом, амбассадором их воли.
А Судьба играла, Судьба шутила. Судьба, развлекаясь тасовала карты, позволяя ветру выдувать из колоды случайные знаки. Я узнал звук шагов еще до того как увидел. Стук каблучков по мрамору широкой лестницы, потом голоса… Она шла навстречу.
Но все это — лишь предлагаемые обстоятельства, антураж для того, что лежит гораздо глубже, своеобразная религия мира, в котором узнаются события, происходящие в нашей с вами реальности.
 Присутствует ли многомерность в литературном произведении можно судить по тому, насколько оно может быть актуальным для того или иного промежутка времени. Уже давно ни для кого не секрет, что история неизменно повторяется. Повторяется не в мелочах — в общих тенденциях. И поскольку историю пишут победители, просто иметь глаза, чтобы видеть, недостаточно, нужно быть очень внимательным, чтобы замечать тонкости и закономерности истории, повторяющейся из раза в раз, от большего к меньшему, подобно фракталу, либо наоборот.«Играя с Судьбой» — именно та книга, которая, слой за слоем, обнажает перед читателем ужасы войны на примере отдельно взятых личностей, помимо воли вовлеченных в эти события. Уладить их они не способны — ни одна пушинка не в состоянии изменить течения реки, ее подхватившей, — но они всеми силами пытаются бороться. Бороться за собственную жизнь, за семью, за Родину. Если бы я не знал, что Автор задумал эту книгу много-много лет назад, я бы решил, что пишется она по горячим следам. И это говорит не о том, насколько точно автор сумел смоделировать ситуацию нашего будущего, а о том, насколько точно действует выдуманная Азимовым психоистория — закон, касающийся психологии масс и цикличности исторических процессов, которой я вынес в эпиграф рецензии. Сначала — «три закона роботехники», теперь — психоистория…
Присутствует ли многомерность в литературном произведении можно судить по тому, насколько оно может быть актуальным для того или иного промежутка времени. Уже давно ни для кого не секрет, что история неизменно повторяется. Повторяется не в мелочах — в общих тенденциях. И поскольку историю пишут победители, просто иметь глаза, чтобы видеть, недостаточно, нужно быть очень внимательным, чтобы замечать тонкости и закономерности истории, повторяющейся из раза в раз, от большего к меньшему, подобно фракталу, либо наоборот.«Играя с Судьбой» — именно та книга, которая, слой за слоем, обнажает перед читателем ужасы войны на примере отдельно взятых личностей, помимо воли вовлеченных в эти события. Уладить их они не способны — ни одна пушинка не в состоянии изменить течения реки, ее подхватившей, — но они всеми силами пытаются бороться. Бороться за собственную жизнь, за семью, за Родину. Если бы я не знал, что Автор задумал эту книгу много-много лет назад, я бы решил, что пишется она по горячим следам. И это говорит не о том, насколько точно автор сумел смоделировать ситуацию нашего будущего, а о том, насколько точно действует выдуманная Азимовым психоистория — закон, касающийся психологии масс и цикличности исторических процессов, которой я вынес в эпиграф рецензии. Сначала — «три закона роботехники», теперь — психоистория…
Но довольно про Азимова и психоисторию, ведь разбираем мы не его, а совсем другую книгу, хоть так и тянет сравнить «Игры» с его «Основаниями» и Лемовским «Солярисом» (мир Аюми). И довольно про политику, ведь даже бессмертное творение старины Толстого было написано не столько ради освещения войны с Наполеоном, сколько ради того, чтобы показать жизнь и судьбы людей, в эту войну вовлеченных. «Играя с Судьбой» — это фантастика. Фантастика научная, социальная, медитативная. Дзенфантастика. И, в некотором роде, космоопера, но примечательная не растянутостью во времени, а самой эпичностью полотна.
Насколько я знаю, тетралогия «Игры с Судьбой» вызвает определенный резонанс среди читателей, поскольку, по представлениям некоторых, ломает шаблоны многотомников, к которым привыкли завсегдатаи АвторТудей. Кого-то раздражают перебросы фокалов внутри одного тома, кому-то не хватает боевок, а кто-то ругает книгу за излишек рефлексии. Но позвольте, ведь и лукасовские «Звездные войны» грешат сменой фокалов, поскольку история подается многогранно. Чтобы понять лучше и проникнуть глубже, зарываясь в новые смыслы, просто необходима смена ракурса. Взамен космическим «бах-бах» читателю предлагается политика, дипломатия и интриги, которые суть тоже являются отличительными признаками космооперы, а вместо любовно-слезных мелодрам читателя ждут интеллектуальные головоломки, пасхалки-перевертыши и остроумные битвы разума. Автор не ломает шаблоны, как считают некоторые, а приглашает читателя задуматься о своем месте, размышляя о жерновах истории, перемалывающих любого, невзирая на звания и титулы. Это книга о поиске смысла жизни и, конечно же, о выборе — о нашем с вами выборе. Дороги, истины. Судьбы.
Но давайте обо всем по-порядку, ведь на данный момент передо мной стоит задача рассказать пока о первых двух томах тетралогии «Играя с Судьбой», избегая спойлеров, но в то же время делясь своим видением, замечаниями и открытиями. Разбор структуры и конструкции половины истории делать бессмысленно, поскольку это означало бы рвать целостное полотно, но определенные выводы сделать можно.
Первый том — своеобразный пролог, в котором происходит знакомство с авторской вселенной, объясняются тонкости мироустройства и преподносится расстановка сил. Здесь максимально подробно выписаны все герои, по крайней мере, настолько, насколько это необходимо в данный конкретный момент. И именно первый том наиболее остро отзеркаливает современные реалии, с какой позиции микро- или макрокосма не взгляни:
Странная, невероятная невозможная тишина, которую он, казалось, уже когда-то слышал, была разлита в воздухе, земле и воде. Перед бунтом, — подумалось ему. Я слышал такое однажды перед самым бунтом. Неслышимый скрежет движения шестерен незримого механизма Судьбы. Вот что это.
Война — это трагедия для каждого, и в эту трагедию мы погружаемся не абстрактно, а сквозь призму уже ставших нам близкими героев. Чем дольше мы находимся с ними, чем больше познаем глубину их характеров, тем ближе воспринимаются их проблемы и переживания, и даже самый последний негодяй находит оправдание злодеяний в глазах читателя.
Автор максимально стремится погрузить нас во внутренний мир героев, и делает это не только при помощи переноса фокала и перехода с третьего лица на первое, но и при помощи рефлексий героев, их самобичевания. Впрочем, этим же занимались и Саймак, и Брэдбери, пытаясь достучаться до сердец читателей.
Идейные противостояния, дружба, ответственность и самопожертвование — вот идеи, на которых держится первый том тетралогии. Главными его героями — но, отнюдь, не главными героями всего цикла — являются курсант летной школы Рокше, свободный торговец Арвид Эль Эмрана и жена одного из повстанцев небольшой планеты Фориэ Арима. Перебрасывая друг другу мячик фокала, словно камеру умелого оператора, они показывают одну и ту же ситуацию с трех различных сторон, позволяя читателю самому делать выводы и строить догадки. Авторские пасхалки запрятаны практически с самого начала истории, но о некоторых из них мы узнаем гораздо позже, уже во втором томе — когда знакомимся с героем, упоминание о котором вынесено в аннотацию:
Это история Певца и Поэта. История вдохновения, свободолюбия и человеческого духа, меняющих все вокруг.
Как только я обнаружил главную пасхалку, связанную с именем героя, я стал читать гораздо медленнее: пытался найти спрятанное везде, от имен героев, до названий городов. Увы, нашел всего две (возможно, просто плохо искал). Ловко, симпатично и не бросается в глаза, если не знать об этом. Но жестоко, потому что мало. Впрочем, это компенсируется тем, что второй том поднимает вопросы, гораздо более личные и актуальные для каждого (и в этом прелесть медленного чтения): в чем смысл жизни? что такое свобода воли, свобода выбора? можно ли мечтать об объективно недостижимом?
Вздохнув, Гайдуни посмотрел в небо. В вышине кружила птица — парила в восходящих потоках, распахнув крылья, словно обнимая весь мир. Казалось — ветер сам вознес ее, нет ей дела до терзаний и мечтаний, что свойственны людям. И вот она свобода — полет и свобода. А он как в клетке. И из клетки ему не вырваться никогда. Даже краткий миг радости наказуем. Он же как мышь, глупая серая полевка, на которых охотится эта смелая гордая птица. Мышь бесхвостый. А свобода — кто знает, если ли она в Лиге или это иллюзия? Свобода — истинная, неограниченная только у тех, у кого власть. Тоже истинная и неограниченная.
Вот только он сам для такой власти не создан и понимает это. Ему бы Гильдию в руках удержать. А свободы, тем не менее, хочется.
Да-Деган заметил направление его взгляда, качнул головой.
— О чем ты мечтаешь, Гайдуни Элхас? — спросил, вырвав из задумчивости.
 Мальчик-мажор, которого мы запомнили по первому тому как легкомысленного и самовлюбленного повесу, неожиданно открывается нам совершенно с другой стороны, и открывает его читателю именно Певец Ареттар, обронивший, словно камешек в стоячие воды, неожиданный, но своевременный вопрос.
Мальчик-мажор, которого мы запомнили по первому тому как легкомысленного и самовлюбленного повесу, неожиданно открывается нам совершенно с другой стороны, и открывает его читателю именно Певец Ареттар, обронивший, словно камешек в стоячие воды, неожиданный, но своевременный вопрос.
« — О чем ты мечтаешь, Гайдуни Элхас?» — вторит рефреном внутренний голос еще почти мальчишки, помешанного на археологии.
« — О чем ты мечтаешь, Гайдуни Элхас?» — преследует юношу Автор, пропуская его сквозь жернова персонального душевного ада.
« — О чем ты мечтаешь?» — откликается эхом в сердце читателя, бередя душу и пробуждая давно утраченные надежды и иллюзии. И вот уже вслед за Гаем мы начинаем задумываться о собственных жизнях, мечтах, о том, много ли упустили, стремясь за чужими чаяниями и навязанными желаниями. А о чем мы мечтали сами? Может быть, еще не поздно осуществитить свои мечты?
Так, Ареттар выходит за пределы книги, обращаясь уже непосредственно к читателю, и это уже не только история Певца и Поэта и его случайного работодателя — это наша с вами история.
Надо отдать должное, Автор умело удерживает мысль читателя в рамках романа, не давая ему уйти в собственную рефлексию:
… однажды она спросила о том, что подспудно ее точило. Чем же гуляка и пьяница — поэт, любимец Лиги смог зацепить этот чуждый и дикий мир. И получила ответ: «Девочка, он заставил нас вспомнить, мы — не рабы. Он научил нас мечтать о свободе».
Но певец мертв, его голос больше никого не растревожит, не заставит надеяться, верить, мечтать. Соврало пророчество, и никто не уничтожит власти Высокородных. Только почему же, на старости лет, хочется верить, что пророчествовавший не лгал?
Впрочем, второй том наполнен не только философией и психологизмом. Здесь читателю предлагают распутать целый клубок сложных и запутанных семейных тайн. Намек на родственную связь был подброшен еще в первом томе, простой и прозрачный, позволяя читателю почувствовать себя умнее и Автора, и героев, но уже с самого начала второй книги эти карты раскрываются, чтобы запутать нас еще сильнее. Что и как произошло? Кто бабка Рокше? Кто дед близнецов? Как Поэту удалось так сильно измениться и почему его сын стал сиротой?

И главный вопрос — почему только у них на роду написано вступать в контакт со Звездными Бродягами Аюми?
К слову, камни Аюми практически сразу воспринимаются отдельными крошечными мирами. Кажется, что это галактики, подобные той, что висела на ошейнике Ориона из фильма «Люди в черном», пробуждая в тех, кто находится в непосредственной близости, сопричастность чему-то, стоящему на порядок выше: в их присутствии не можешь лгать, притворяться, они нелицеприятно раскрывают истинный смысл вещей, которые до сих пор были спрятаны глубоко в бессознательном. Можно сопротивляться воле одного камня, но когда их много, понимаешь всю глубину личной трагедии и выбираешь неизбежное.
У искушения цвет небесной сини.
Он несколько раз зарекался не трогать камни, надеялся забыть, заперев их в надежном сейфе. Не удалось. Камни звали. Он открывал сейф, доставал черный бархатный мешочек, вытрясал их на ладонь. Любовался. Небольшие, размером с ноготь большого пальца, напоминавшие окатыши гальки, они завораживали своей игрой — биением пульса сини.
Камни — часть мира Аюми, а может — сам этот мир, ибо ощущения от встречи и с тем, и с другим абсолютно идентичны:
И кажется — я волоку на себе весь мир. Шаг за шагом, прокусив губу, неизвестно сколько времени потратив на это — то ли вечность, то ли две, я таки добираюсь до манящей сияющей сини, по поверхности которой иногда словно бы идет рябь, заставляя поверхность играть оттенками от нежно — голубого, до глубокого ультрамарина. Я стою на пороге, и кажется — синь смотрит в меня, тянется ко мне пучками тончайших нитей, бьет током, леденит ливнем, прорастает внутри.
Вода у берега была хрустальной прозрачности, у горизонта сияла синим стеклом, укрытая небесной, бесконечной, бездонной синевой. И казалось, не живым среди странного мира он бродит: казалось, неведомая сила поймала — и внесла, вдавила вовнутрь поющего синего камня, когда-то на несколько минут оказавшегося в его руках.
Что светлые сполохи на его поверхности — рассветы и закаты, грозы, молочные реки, текущие в хрустальный океан. А густеющая чернота приходит, когда внезапно обрывается свет в зените, погружая мир в полную темноту. Беззвездные, безлунные небеса, как толща каменного свода пещеры — ни искорки света. Ночи… в ночи только накатывающиеся на берег волны излучают слабый, призрачный свет, да когда хочется куда-то брести, невесть откуда взмывает тусклый шар — светляк, сгусток холодной плазмы, что вьется вокруг ног, как собачонка, освещая путь.
Рефрен, как закольцовка, элемент, подчеркивающий важность чего-либо, используется Автором не единожды. Фраза Алашавара после драматичной сцены допроса Рокше
«Ты меня прости, пожалуйста, мальчик»
не раз возвращается, обрастая подробностями, ибо произнесена была, отнюдь, не случайно, и не только лишь как извинение.
«Ты меня прости, пожалуйста, мальчик» — чужая мысль словно прикоснулась ко мне изнутри. Чужая, но не чуждая.
Но об этом мы узнаем гораздо позже — тогда, когда она сыграет свою роль.
Отдельно хочется отметить невероятно красивый и поэтичный язык Автора. Словно услада для глаз литературного гурмана, вынуждает он нас остановиться, перечесть, насладиться мелодикой и образами, увидеть и почувствовать все, словно реальное:
Окружающий мир словно застыл во времени. Очнувшись, я видел сумеречную мглу, она и сейчас такова — то ли предрассветье, то ли обещание скорой ночи. Возможно, сутки здесь длятся годами, возможно, скорость моего перемещения совпадала со скоростью обращения этой неведомой земли. Хотя, это, как раз — навряд ли…
Нагретый воздух дрожал, искажая очертания отдаленных предметов. Если закрыть глаза, казалось, что не треск цикад, наполняет бытие, а огонь с хрустом пожирает траву, землю, весь окружающий мир. От жары раскалывалась голова. Сердце билось тяжело и казалось, что вот-вот встанет. Туника и брюки были влажны от выступившего пота и липли к телу.
Тихо поскрипывал ворот, витки веревки ложились плотно один к другому. Р-раз, и два, и три, и… Скрип и стрекотание. Стрекотание. Скрип… Песнь безнадеги.
Белый шелк расплывается в его руках туманом, человек оборачивается. Нет, это не человек — седой утес, скала — голая, отполированная ветрами и волнами, укрытая туманами. И эта скала смеется — шумом шторма, визгом ветра, криками чаек.Не опрокинуть, не удержаться самому — сгустившийся ледяной воздух отрывает и влечет его — тащит как щепку через пространство к водовороту, по пути швыряя и обдирая в кровь руки о стеклянное, почему-то синее, крошево. И зря он пытается вырваться — стихия сильнее. Сгустившийся воздух тянет его вниз и топит, и отбирает своими прикосновениями остатки тепла у тела. Он, захлебываясь воздухом кричит и — просыпается.
И в этом очаровании стилем не сразу улавливаешь главный посыл — и главную трагедию и мира книги, и нашего собственного:
Если все встанут с колен — кто же останется единственным избранным?
Крамольно, но беспардонно правдиво.
И напоследок — еще одна прекрасная цитата о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя отчаиваться, ведь абсолютно все мы находимся в руках ее величества Судьбы, а она — та еще шутница:
Ты почти на ощупь пройдешь через неосвещенный, полный сумрака дом, повернешь, выйдешь через вход для прислуги прямо в сад. Будешь смотреть как с неба сыплет ледяной дождь.
Ночь. Небо затянуто тучами. Приглушена подсветка огней столицы.
Мир замер. Мир оплакивает свое вчера, уже чувствуя — пришел миг перемен. А к добру они или к худу — не знает никто.
Иногда поманит несбыточным — можно все просчитать, распланировать, угадать. Иногда может показаться — миром правит Судьба.
Автору желаю неизменного творческого вдохновения, думающих читателей и множества новых идей, которые выльются в прекрасные книги!
