Рецензия на роман «Хозяйка замка Уайтбор»
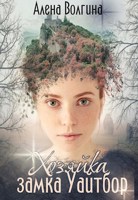
«Хозяйка замка Уайтбор» - вторая книга серии, причём первую я не читала. Разбирать серию с середины я взялась по желанию автора – и, по-моему, зря. Возникали вопросы.
Отсылки к сюжету первой части, пояснения и воспоминания встречаются в книге то и дело – иногда они даже начинают раздражать. Но при этом, что интересно, цельной истории не складывается. Намечены какие-то основные черты: героиня, Энни Фишер, она же Анна Уэсли – ребёнок аристократа и эльфийки, выросла в бедном районе у приёмных родителей, два года работала сыщиком. Затем попала в какую-то переделку с ростовщиком и эльфом (то есть сидом – будем следовать словарю романа), во время которой её спас лорд Кеннет Фонтерой, обернувшийся драконом. Это, собственно говоря, всё, что можно понять о сюжете первой книги из второй части. Отсылок к первой части очень много, но они не в полной мере раскрывают основную линию сюжета, зато часто фокусируются на мелких деталях и второстепенных персонажах.
Естественно, для читателя, идущего по порядку, это будет не критично. Но автор говорит, что книгу можно читать как отдельную историю – нет, всё-таки нельзя. Или же нужно сильно пересматривать систему пояснений.
Впечатление от книги – неоднозначное. В первую очередь порадовал стиль – он идеально соответствует антуражу романа. Язык выдержан в духе английской классики, вернее, качественных переводов этой классики, которые делались в советские годы. В таком контексте даже прямое обращение к читателю, изгнанное из современной литературы («Не поверите, но я чувствовала зов этого каменного исполина все время, пока наша повозка тащилась по холмам, покачиваясь под порывами ветра») кажется не устаревшим приёмом, а целенаправленной стилизацией.
Совсем безупречным язык романа назвать нельзя: изредка автор чересчур увлекается метафорой («Лицо и руки сразу съежились от холода, взгляд провалился в темноту») или необдуманно использует слишком современные для описываемого времени выражения («Я усмехнулась: безумству храбрых, как говорится…»). Однако таких промахов немного, и читается книга с удовольствием.
Сюжет стоит на трёх китах: любовной, детективной и магической составляющей. Если говорить о любовной линии, то она – ну, обычная. Золушка терзается, достойна ли она принца, а принц занимается своими делами. Ситуация довольно стандартная, и каких-то оригинальных ходов в этой линии я не увидела. Зато здесь есть замечательное, на мой взгляд, описание чувств влюблённого человека, которое мне очень хочется процитировать:
Вздрогнув, я открыла глаза. Прямо передо мной стоял Кеннет… и улыбался.
В этот момент я поняла, что чувствует человек, находясь внутри радуги. Ничего не изменилось, и лес был такой же тихий, но внезапно он словно расцвел, пронизанный радужными лучами – нежный и яркий мир вокруг нас.
Магическая составляющая, на мой вкус, гораздо ярче и богаче. Мир романа полон волшебства, сиды живут бок о бок с людьми и вмешиваются в их дела. Атмосфера этого близкого соседства, одновременно притягательного и опасного, передана очень хорошо.
В книге есть замечательные формулировки:
Амброзиус всегда говорил, что дружба с сидами – гиблое дело. Ты считаешь, что просто играешь с ними, а на самом деле это они играют в тебя.
Или:
Я скользнула в волшебство так легко, как рука входит в разношенную перчатку.
Но само волшебство довольно-таки неоднородно. Чёткой магической системы здесь нет, и потому легенды об обитателях Полых Холмов благополучно соседствуют с забавной байкой о шкафе, который не любит вербену не меньше эльфов:
Предыдущая экономка сбежала с воплями, что наш замок населен призраками. А та, что была до нее, попросила расчет, когда шкаф в бельевой отказался выдавать ей скатерти. У нее, видите ли, была странная привычка перекладывать сложенное белье цветами красной вербены. Придя ко мне за расчетом, бедная женщина дрожала от обиды и возмущения. По ее словам, она привыкла терпеть критику от хозяев, но не может вынести того же от хозяйской мебели.
Наиболее интересная, на мой взгляд, волшебная деталь книги – живой и разумный замок, но он действует в романе не так уж активно. А одна из самых красивых и кинематографичных сцен, относящихся к замку, является одновременно и одной из самых разочаровывающих:
Вместо просторного холла мы попали в какую-то каменную утробу, сплошь состоящую из лестниц и переходов. Я не помнила в Уайтборе такого места, но сегодня здесь все было не так! Все смешалось и перепуталось этой ночью! Будто замок вывернулся наизнанку, обернувшись ко мне другой – Чужой Стороной. Под ногами текли ступеньки, наверху была сплошная путаница из перекрещенных лестничных пролетов. Они медленно, рывками, двигались, словно мы находились внутри исполинского часового механизма. Мы то поднимались, то бежали вниз, и вскоре я совершенно потерялась в этом движущемся лабиринте. Будь я одна, уже давно попала бы в тупик, но «стрекоза» каждый раз безошибочно выбирала пролет, который ровно к нужному моменту совмещался с другим пролетом.
Картинка просто великолепна, но аналогия с движущимися лестницами Хогвартса возникает неизбежно.
Отсутствие проработанной магической системы позволяет вводить при желании любые ходы – например, превращение кулона-стрекозы в летающую девушку или использование «ключей для души». Неизвестно, как они действуют, но выглядят очень красиво:
Видели там ключи? Они были созданы для того, чтобы не потерять себя на Той Стороне, где мне изредка приходилось бывать. – Уэсли запнулся, но потом продолжил: – Я мастерил их из проволоки и перьев, из детских воспоминаний, из локона одной леди, с которой когда-то был знаком, и из обломка шпаги некоего джентльмена, пытавшегося отправить меня на тот свет. Я привязывал себя к нашему миру, как мог.
Магия без ограничений, конечно, существенно упрощает жизнь автору, но при этом она так же существенно теряет в достоверности. Понятно, что если героине понадобится взлететь или пройти сквозь стену, она и взлетит, и пройдёт, и всё это будет без заморочек объяснено загадочной природой сидов. Как, собственно говоря, и случилось в финале, когда Энни ощутила себя частью волшебного мира. Поэтому магическая часть романа вышла красивой, яркой, но неубедительной – под ней нет основы.
Про третью же линию книги, детективную, лучше всего сказать цитатой: «Стоит какому-то сиду вмешаться в расследование – и сразу начинается полная чехарда!» Интрига выстроена замечательно, события выверены и подогнаны друг к другу, намёки и ниточки, ведущие к отгадке, продуманно расставлены по тексту. Но в последний момент эта система рушится. Конечно же, хитроумный злодей подстроил всю эту многоходовку – но в чём состоит его мотив? А мотива-то и нет.
У меня было подозрение, что этот самый мотив лежит в первой, непрочитанной мной части и настолько жирен, что его хватило на две книги. Но эту версию опровергает героиня, которая спрашивает у виновника:
– Зачем вы дали девочке настойку виденника? Зачем соблазняли ее чудесами Той Стороны?
И ответов при этом не получает, как не получает их и читатель. Но ведь если бы мотив был озвучен раньше, у героини (профессионального сыщика, кстати) вопросов о причине поступков виновника не возникло бы? Таким образом, всё изящное здание детективной составляющей, как и в случае с магией, оказывается без фундамента – и потому детективная часть разочаровывает.
На мой взгляд, недостаток продуманности – самое слабое место книги. Слишком многое здесь необоснованно. Чаще всего – мелочи, но когда их набирается слишком много, они перевешивают и прекрасный слог, и динамику, и волшебство. Принцип «патамушта» распространяется не только на события, но и на характер героев, и это особенно обидно.
Большая часть персонажей – прелестные образы викторианской эпохи, знакомые нам по английской классике, оттого их встречаешь, как старых знакомых. Но убедительнее всего они выглядят, оставаясь на заднем плане. Выходя на главные роли, герои начинают демонстрировать тот же самый авторский произвол. Мотивация у них вроде бы есть, но она не очень достоверна. Например, объяснение, что Мэри заботилась о счастье сестры, выглядит натянутым – она показана как умная девочка с независимым мышлением, а её родственные чувства вроде бы не настолько горячи. Поэтому поступки Мэри не вяжутся с её характером.
Вопросов нет только к лорду Кеннету – он ведёт себя по законам жанра. Вовремя пропадает, оставляя героиню в неизвестности и душевных терзаниях, появляется в критический момент, даёт поводы для ревности и сомнений… В общем, всё, как положено в любовном романе, пока герой не окольцован.
Зато образ главной героини не складывается. У меня есть подозрение, что засада именно в том, что она должна действовать сразу в трёх плоскостях: детективной, магической и любовной, а каждая предъявляет к героям свои требования.
В принципе, то, что Энни непоследовательна, не выглядит чем-то невозможным. В начале главы она говорит «Мне не хотелось, чтобы в наших отношениях с Кеннетом возникла фальшивая нота, а та леди, с которой ему однажды пришлось танцевать на балу – это была не я. Сможет ли он принять меня настоящую, еще вопрос». В конце – решает доказать всем, что может стать той самой «настоящей светской леди» («Он удивится, когда увидит, как сильно я могу измениться!»). Но это, в общем-то, одна из сторон женской способности приспосабливаться к обстоятельствам. Штука неприятная, но естественная.
Хуже, когда противоречия в поведении героини возникают из-за небрежности объяснений. Вот, например, яркий пример маленькой детали, работающей на недостоверность текста: отношение Энни к кучеру.
Я обрадовалась, так как физиономия дядюшкиного слуги, на девяносто процентов состоявшая из усов и бороды, подозрительно напоминала волосатую морду хобгоблина, и мне вовсе не улыбалось ехать с ним в темноте через пустоши.
А чуть позже:
Вид притихших серых холмов, простиравшихся до горизонта, как всегда, вызывал у меня ощущение смутной угрозы, хотя присутствие дядиного грума несколько успокаивало. Как я уже упоминала, он был так бородат и космат, что среди хобгоблинов, обитающих в заброшенных шахтах, легко сошел бы за своего.
В первом случае бородатость кучера и его сходство с хобгоблином тревожат Энни, во втором то же самое её успокаивает. Перемена радикальная, а причин для неё вроде бы нет. Этот момент – крошечный и на что не влияет, но он оставляет неприятное ощущение неуверенности. Так что всё-таки Энни думает про кучера? Как ощущает себя в его присутствии? Деталь, вместо того, чтобы прояснить характер героини, его размыла. Когда подобных мелочей набирается много, текст ощутимо теряет достоверность, а авторский произвол выходит на поверхность.
Напомню ещё раз, что у Энни непростая биография: она выросла на дне общества и успешно работала «ищейкой» в команде профессионалов. Для этого, конечно, нужны определённые качества. Было бы логично, если бы она проявляла эти качества и во второй книге, но на практике выходит что-то совсем иное.
Самый яркий в этом отношении момент – ночь Имболка. Этот участок сюжета состоит из сплошных противоречий и не очень хорошо характеризует героиню.
Идея такова: в ночь Имболка открывается проход между мирами людей и сидов. Замок Уайтбор – место открытия этого прохода, и Энни намерена воспользоваться моментом, чтобы наконец увидеть своих родителей. Однако дядя противится её намерению и отсылает из замка.
Благодаря сопротивлению дяди здесь завязывается конфликт, дающий толчок сюжету и заставляющий героиню предпринять множество всяких опасных для жизни и здоровья действий. Динамичность и риск скрепляют их воедино, захватывая читателя. Но если рассматривать каждое из событий по отдельности, возникает множество вопросов.
По идее, встреча с родителями для Энни очень важна. Вроде бы героиня готова ради этого идти на большой риск – ехать ночью в одиночку через холмы:
Не считая возможной встречи с Мейвел, это была самая рискованная часть моего плана. Тридцать миль верхом на норовистой лошади, да еще в темноте – весьма опасное предприятие, даже если не брать в расчет Босвенского зверя и других тварей, подстерегающих в холмах. «Но это, скорее всего, мой единственный шанс увидеть родителей!» – напомнила я себе. Выносить характер лорда Уэсли было нелегко, и я твердо решила, что покину Уайтбор сразу же, как только появится Кеннет.
Из этого абзаца вытекает, что на ночную поездку Энни готова. А на то, чтобы выносить общество дяди – уже нет. Возможность не общаться с дядей оказывается вдруг сильнее желания увидеть родителей. Это нелогично и непонятно, но задав героине такие приоритеты, можно вынудить её действовать решительнее – кажется, для того и нужен «единственный шанс».
С другой стороны, всё ночное приключение случается именно из-за нерешительности Энни. Когда дядя отсылает её на Имболк вместе с подругами в соседний город, Энни даже не пытается сопротивляться.
Кажется, пора было расставить все по местам:
– Прошу меня извинить, но я не могу поехать.
На меня уставились три пары глаз: две – умоляющих и одна – проницательно-хитрых, отливающих зеленью.
– В чем дело, Анна? Разве на послезавтра у вас намечены какие-то дела, не терпящие отлагательств? – спросил лорд Робин вроде бы с участием в голосе, но его брошенный на меня острый взгляд напоминал выпущенный на долю секунды коготь.
«Ну конечно, так я и призналась!» Я отрицательно покачала головой.
– Вот и хорошо. Значит, решено. Послезавтра вы отправляетесь в Триверс!
– Как чудесно! – воскликнула Кэролайн.
Джейн казалась донельзя смущенной. Она была из тех натур, которые больше всего боятся обременить собой кого-нибудь. Зато Кэролайн просто сияла! Я с трудом выдавила ответную улыбку.
«Что ж, придется действовать хитростью».
Героиня не делает попытки отстоять своё право остаться в замке, не пробует что-нибудь соврать - просто вяло обозначает нежелание ехать и подчиняется обстоятельствам, выбирая намного более сложный и опасный путь. С предыдущей биографией Энни это не согласуется.
В другом эпизоде она объясняет:
Обычно я не так стеснительна, когда дело доходит до выяснения важных подробностей. Сами понимаете, в команде Тревора мямлям не место. Однако в присутствии дяди меня отчего-то сковывал холод, и слова не шли с языка.
Он и так не слишком меня любил. Я не хотела, чтобы он разочаровался во мне еще больше.
И это снова очень ненадёжное объяснение. Бояться разочаровать родственника, с которым твёрдо намерена никогда больше не встречаться, выйдя замуж – сомнительно.
Так что приходится признать, что Энни усложняет себе жизнь не в силу своего характера, а по воле автора. Сообразительная «ищейка» могла бы наотрез отказаться куда-то ехать, сказавшись больной или найдя другую причину, но тогда не было бы остросюжетного эпизода со скачкой в темноте.
Неприятно поразил меня эпизод в Триверсе: пока старшие сёстры перебирают кружавчики и ленточки, младшая, двенадцатилетняя Мэри, просит отвести её в книжную лавку. Энни приводит девочку в книжный и доверяет ребёнка и увесистый кошелёк букинисту, которого видит в первый раз в жизни. А сама, ничего толком не объяснив, сбегает обратно в замок:
– Мне, к сожалению, придется тебя оставить, – сказала я девочке. Она на меня даже не взглянула, озираясь по сторонам, как рыбак, выброшенный на безлюдный остров и внезапно обнаруживший там пещеру сокровищ. – У меня есть еще одно неотложное дело. Передай мои извинения Джейн и Кэролайн.
– Что? – переспросила Мэри, завороженная зрелищем открывшихся богатств.
Я вздохнула. Ладно, если что – Джейн знает, где ее найти.
– Ничего. Желаю успеха.
Было очень странно видеть, как Энни, выросшая в не самом благополучном районе, совершенно не беспокоится, что оставила девочку одну в незнакомом месте и с чужим человеком. Я понимаю, что роман не про маньяков… но не могла же «ищейка» не понимать, что подвергает ребёнка опасности? Не говоря уже о том, что подруг перепугает её исчезновение.
Некрасивый момент – и у читателя здесь два пути. Либо решить, что Энни эгоистична и глупа, раз думает только о достижении своей цели и не волнуется о том, что будет с её подругами. Либо признать, что в игру снова вступил авторский произвол, вынудив героиню действовать так, как удобнее для развития сюжета. В первом случае Энни становится довольно-таки неприятной, во втором – картонной.
Ум героине вообще отказывает довольно часто. То она вдруг начинает излагать свои выводы вероятному убийце, оказавшись с ним наедине:
Я почувствовала, как паника ледяной волной поднимается по спине, стискивает сердце, так, что становится трудно дышать. Хуже всего, что на мили вокруг не было ни души! Мы были одни в этом диком и безлюдном месте, в двух шагах от опасных скал. Я – и убийца.
То решает бросить на произвол судьбы уехавшего дядю, которому королева Мэйвел пообещала смерть за пределами замка. Вместо того, чтобы поехать и привезти больного дядю домой, пока тот ещё жив, Энни занимается собственным «расследованием»:
Почему-то объяснение с дядей пугало сильнее, чем с Королевой. Да и сможет ли он помочь, в его-то состоянии?! Наоборот, это я ему помогу, отыскав настоящего преступника, ведь тогда чиновникам придется выпустить Дуайта!
Нужно отметить, что и остальные герои ведут себя не намного умнее. Скептик мистер Гимлетт вместо того, чтобы организовать розыски племянницы, приказывает срыть лабиринт сидов, в который никогда не верил. Внезапно поверил? Но тогда, уничтожая лабиринт, он лишил свою племянницу возможности вернуться.
Отец Энни зачем-то зовёт её на пир к королеве сидов, хотя Мэйвел видеть её совершенно не желает. Это отдельная песня: королева абсолютно неубедительна, и подданные подчиняются ей через раз, её слово ничего не значит. Похоже, что у сидов довольно шаткая монархия... Но навредить Энни Мэйвел может, не говоря о том, что человеку нельзя ничего есть и пить Под Холмами. Однако родители сначала тянут Энни на пир, где даже не сидят с ней рядом и не разговаривают, а затем с большим трудом организуют её бегство. Зачем это нужно для сюжета, понятно – иначе не удалось бы спасти пропавшую девушку. Но вряд ли отец Энни должен заботиться о ходе сюжета больше, чем о безопасности дочери.
Даже Босвенский зверь ведёт себя неестественно: когда надо, бросается на героиню, когда надо, отстаёт, когда надо, служит ездовым пони. Ниточки, привязанные к этим фигуркам, слишком хорошо видны.
Из-за них ни героям, ни роману я не поверила. Как бы красиво ни была написана эта книга, какой бы ни была прекрасной и яркой её магия, играет она нечестно.
Но тем восхитительнее кажется мне небольшой фрагмент, который, как мне кажется, заключает в себя всю глубину романа, его смысл:
– Однажды она сказала: «Мир между людьми для нас пища и питье, а злоба и ненависть – яд». Хотим мы того или нет, наш мир связан с Той Стороной невидимыми нитями. Все зло, что творится здесь – отражается там, и наоборот. Теперь понимаете, почему Мейвел так рвется сюда? Только представьте, что ваша земля постепенно обращается в пепел, а корни этого зла лежат за границей, куда вы никак не можете дотянуться!
Я открыла рот, чтобы возразить, но потом вспомнила рассказ Кеннета в Кардинхэмском лесу… и промолчала. Массовые убийства и жестокость, творившиеся на Континенте, могли отравить наш мир на много лет вперед, и если щупальца этой отравы дотянулись до Той Стороны, то беспокойство Мейвел можно понять.
Связи между всем, что есть в мире – или в Мирах – это глубокая и важная тема, о которой нужно время от времени напоминать людям. И в эти невидимые нити, в отличие от тех, видимых, на которых висят герои, я верю. Мне кажется, писать о них – очень достойная задача.
__________________
Рецензия написана на платной основе, подробности тут: https://author.today/post/59197
