Рецензия на повесть «Трубочист поневоле»

Друзья, садитесь поудобнее, налейте себе чашечку кофе — и поговорим о недавно прочитанной мной повести Анастасии Разумовской «Трубочист поневоле». Я расскажу вам о своих впечатлениях и заодно поговорю с автором этой книги.

Как классифицирует свою повесть сам автор, это исторический детектив и подростковая проза, и совместить такие жанры — задача непростая. Если ты пишешь исторический детектив, то даже для подростковой аудитории он им и должен оставаться, и даже более того — к исторической точности в этом случае придётся подходить со всей тщательностью. Мы же не хотим, чтобы подрастающее поколение представляло викторианский Лондон как русскую деревню конца XIX века, правда?
Первое, что хочу сказать Анастасии, — респект за смелость. Взять такой жанр, как исторический детектив в викторианском Лондоне, — это сильный ход. Сама идея — просто блеск. Мальчик‑аристократ с амнезией, которого заставили работать трубочистом, большая политика, умная девочка Амабель (Mabel). Что радует, такое имя действительно в те времена могло быть (Этому поспособствовала публикация романа «Наследник имения Редклиф» (1853 г.) Шарлотты Мэри Янг, в котором главную героиню, ирландку, звали Мейбл Килкоран). Это тот фундамент, на котором можно строить шедевр. И автор его заложил. Мне было действительно интересно, чем всё закончится, я переживал за героев — а это главное.
Но в процессе чтения я заметил несколько моментов, где ткань вашего повествования, если говорить метафорически, начала расползаться по швам. Это не приговор, а скорее как если бы я помог автору найти дырки в свитере, чтобы он мог их заштопать. Давай разберём их по порядку, без предвзятости и придирок.
В самом начале Вы используете два разных определения для одного персонажа в одном абзаце ("паук" и "старик"), не давая сначала четкого портрета. Это создает путаницу. Читателю приходится останавливаться и расшифровывать: "Так "паук" и "старик" — это один человек или два разных?"
Вместо того чтобы сразу дать ясный образ, Вы заставляете читателя проделать лишнюю работу. Сначала мы видим "паука", который считает деньги, потом этот же "паук" превращается в "старика", который "всплеснул руками". Сбивает с толку.
Как можно было бы сделать яснее:
Сгорбленный старик, похожий на паука, вздохнул, вытащил из кармана грязную тряпицу...
...Старик, которого Джонни мысленно окрестил "пауком", всплеснул руками: "Джонни, мальчик!..."
Так было бы сразу понятно, что "паук" — это метафора, а не новый персонаж.
Вы иногда злоупотребляете субъективным восприятием героя в ущерб ясности для читателя. В погоне за образностью и "внутренним взглядом" Джонни, текст в отдельные моменты становится запутанным, заставляя перечитывать абзацы, чтобы понять, кто есть кто. Эпизод с "пауком" — наглядный пример такой стилистической непоследовательности.
Как это можно было сделать?
Мальчик открыл глаза. В глазах плыло. Жёлтый потолок, паутина трещин. Голоса. Он повернул голову и увидел двух незнакомых мужчин. Один, важный, в пенсне, смотрел на него. Другой, сгорбленный, стоял к нему спиной, что-то шепча и копошась у стола. От их вида стало страшно.
— Где я? — прошептал он. Его собственный голос прозвучал хрило и непривычно, отчего он невольно вздрогнул.

Проблема первая, и, пожалуй, самая заметная, — язык Ваших героев.
Вы поселили их в Лондон 1840‑х годов, но иногда кажется, что они привезли с собой русский деревенский сленг. Вот Вам конкретные примеры, которые резанули мне глаз:
Ваш трубочист Билли говорит: «Ничо, привыкнешь. Щаз, щаз, ужо иду».
Дети в семье Смитов называют родителей «батюшка» и «матушка».
А кто‑то из взрослых кричит: «Ты намерен спать до третьих петухов?»
В Англии XIX века, особенно в устах лондонской женщины из низов, эта фраза невозможна. Английский язык имеет собственные, совершенно иные идиомы для этого понятия:
- «To sleep till the crack of dawn» (спать до рассвета)
- «To sleep till all hours» (спать до неприличного времени)
- Более грубый, просторечный вариант — «To lie abed till kingdom come» (валяться в постели до второго пришествия)
Почему это проблема?
Представьте: Вы смотрите фильм про ковбоев на Диком Западе, а они говорят: «Ну, чё, по коням, пацаны?» Всё, магия разрушена. Здесь то же самое. Эти фразы — чисто русские, причём некоторые — современные или деревенские. Английский подросток из трущоб сказал бы что‑то вроде «nothing» («ничего») или «wait a moment» («погоди»). А обращался бы к отцу «father» или «pa» («папа»). А вместо «третьих петухов» сказали бы «till the crack of dawn» («до рассвета»).
Это не мелочь. Это симптом системной проблемы — создания "бутафорского" Лондона, где персонажи являются русскими людьми в костюмах викторианской эпохи. Они мыслят русскими категориями и говорят русскими идиомами, что напрочь убивает достоверность исторического антуража.
Как это можно было сделать?
Очень просто — провести небольшое лингвистическое исследование. Почитать Диккенса — он гениально передаёт речь лондонских низов. Посмотреть пару серий качественного исторического сериала вроде «Виктории» или «Острых козырьков», просто послушать, как разговаривают люди того времени. Завести себе файлик и записывать туда аутентичные словечки и обороты. Это сделает Ваш Лондон настоящим.
И еще пример:
- «Прынц», «маманька», «папахен» — это настолько густое, нарочитое славянское просторечие, что оно полностью уничтожает образ лондонского трубочиста. Это язык героя из повести о дореволюционной украинской или южнорусской деревне, перенесенный в Лондон без каких-либо изменений.
- «Шо», «во», «ишо» — гипертрофированная стилизация под «простой народ», которая не имеет ничего общего с реальным английским просторечием XIX века. Вы, как автор даже не пытались найти аналоги, а просто фонетически передали русский деревенский акцент.
- «Ем от пуза» — идиома, абсолютно невозможная в устах английского подростка. Английский эквивалент мог бы быть «eat my fill» или какое-нибудь сленговое выражение вроде «stuff my belly», но никак не калька с русского.
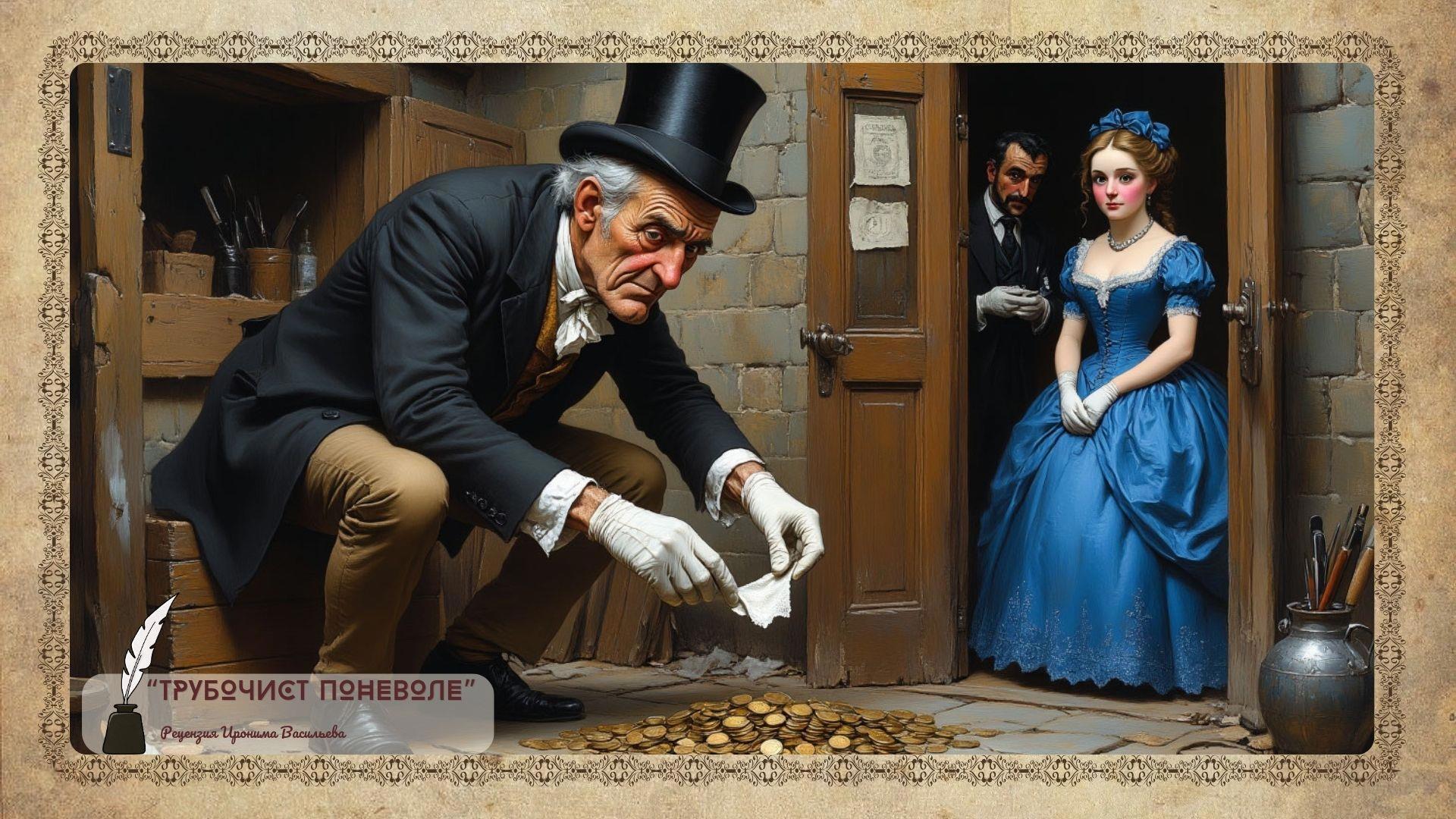
Проблема вторая — логика Ваших героев и мира.
Вы создали правила для своего мира, но иногда сами герои эти правила нарушают, и получается неловко.
У вашего Джонни амнезия — он не помнит ничего. Но при этом с первых секунд оценивает обстановку как «убогую», а человека — как «отвратительного». Вот в чём загвоздка: чтобы давать такие оценки, нужен эталон! Необходимо помнить, что такое «не убого» и «не отвратительно».
Его реакция «Только не это!» на слово «отец» тоже вызывает вопросы. Она возможна лишь в том случае, если в памяти героя сохранился ужасный опыт, связанный с отцом. Но ведь у него амнезия!
Вы оставили лазейку в виде формулировки «полная или почти полная амнезия», но она не спасает ситуацию и не даёт ей логического объяснения.

Эпизод, где хозяева поджигают сено в камине, чтобы поторопить трубочиста. Анастасия, давайте включим логику. Люди нанимают трубочиста, чтобы почистить трубу и избежать пожара. Сознательно поджигать в ней сено — это всё равно что нанять сантехника прочистить засор и тут же залить в раковину цемент. Они рискуют убить мальчика и сжечь свой же дом дотла. Это действие не просто жестокое — оно абсурдное и саморазрушительное.
Почему это проблема?
Читатель перестаёт верить. Он видит, что герои поступают не так, как поступил бы живой человек в их ситуации, а так, как нужно автору для усиления драмы. Они превращаются в марионеток.
Как это можно было сделать?
Для амнезии: показать, что герой познаёт мир с чистого листа. Его оценки должны быть ощущениями, а не готовыми ярлыками. Вместо «убогая обстановка» — «штукатурка сыплется с потолка мне на лицо, а воздух пахнет плесенью и кислой тряпкой». Вместо «отвратительный» — «от него пахнет потом и чем‑то крепким и неприятным, отчего меня мутит».
Для сцены с поджогом: найди правдоподобную угрозу. Хозяин мог бы грубо стучать палкой по трубе, кричать, что замурует его там, или сунуть в низ трубы трубку с тлеющим табаком, чтобы поторопить мальчика, а не устраивать полноценный пожар.

Проблема третья — Вы иногда слишком много объясняете читателю.
Вы не даёте нам самим догадаться, что происходит, а говорите напрямую. Вот примеры:
«Старик покосился на того, кого назвал сыном».
Сцена с доктором, где он, взяв деньги в перчатках, брезгливо вытирает эти перчатки платком, в который сам же недавно и сморкался, выглядит не просто неестественно — она разрушает правдоподобие образа.
В первом случае Вы своим авторским голосом снимаете всю интригу. Мы сразу понимаем, что старик — ненастоящий отец. А могло бы быть так интересно гадать! Во втором случае жест доктора физически бессмысленен — грязь с перчаток никуда не денется. Это карикатура, а не характеристика.
Почему это проблема?
Нарушается главное правило хорошей литературы: «Показывай, а не рассказывай». Читатель чувствует, что его водят на поводке, и его мозг отключается.
Как это можно было сделать?
Вместо «того, кого назвал сыном» — покажите фальшь в его поведении. Пусть он говорит «сынок» сладким голосом, но его глаза остаются холодными и оценивающими. Пусть его ласка кажется неловкой и наигранной.
Как это можно было бы сделать тоньше и сильнее, сохраняя интригу:
- Через восприятие Джонни: «Старик потер руки, и в его взгляде, скользнувшем по Джонни, мелькнуло что-то неприятное, хищное. "Сынок..." — просипел он, но в этом слове не было ни капли тепла». (Мы все еще видим подозрительность, но через субъективную оценку героя, а не голос свыше).
- Через действие и диалог: Старик мог бы с облегчением вздохнуть, что доктор ушел, и тут же грубо одернуть Джонни: «Ну, а теперь, сынок, поднимайся и за работу». Контраст между ласковым словом и жестоким действием сказал бы куда больше.
Вместо «вытирания перчаток» — доктор мог бы просто бросить монеты в карман, даже не взглянув на них, и с отвращением отряхнуть руки, даже будучи в перчатках. Этого было бы достаточно, чтобы показать его брезгливость.
Еще Вы не даете нам почувствовать убогость быта через ощущения героя, он просто называет ее по имени, используя готовые оценочные ярлыки.
«...во всей этой убогой обстановке он не ощущал ничего ни привычного, ни родного. Сам вид того, кто называл себе его отцом, был отвратителен мальчику.»
Что могло быть написано (показ):
«Он провел рукой по стене, и штукатурка осыпалась ему на руку, как перхоть с больного здания. Запах плесени, кислый и тяжелый, стоял в воздухе, смешиваясь с духом нищей еды. Когда "отец" приблизился, от него пахнуло потом, дешевым джином и чем-то неуловимо чужим, от чего по коже пробежали мурашки.»
В чем разница?
- В первом случае автор диктует читателю, что тот должен чувствовать: «Здесь убого, а этот человек отвратителен».
- Во втором случае автор создает опыт. Читатель сам видит осыпающуюся штукатурку, чувствует запах плесени и пота, испытывает физиологическое отторжение. И из этого опыта сам, без подсказки, приходит к выводам: «Какое ужасное место» и «Какой мерзкий тип».
Проблема четвёртая — бутафорские детали.
Некоторые детали, которые должны погружать в эпоху, на деле её разрушают. Почему респектабельный дорогой доктор поехал в трущобы? Для этого были доктора попроще, но это дорогой доктор — 10 шиллингов.
Что можно было купить на 10 шиллингов в 1840‑х?
Около 25–30 буханок хлеба, пару дешёвых башмаков, очень скромный женский костюм, неделю сносного питания для всей семьи Смитов. Если доктора послали заговорщики, то ему бы не было причин брать дополнительную плату.
10 шиллингов для семьи Смитов — это состояние.
Давайте переведём на понятные нам аналогии. Чтобы вы понимали масштаб:
Трубочист‑подмастерье (как Джонни) мог не получать зарплату вообще, работая за еду и кров, или получать считанные пенсы. Квалифицированный рабочий (например, пекарь или столяр) в 1840‑х годах зарабатывал около 20–30 шиллингов в неделю. Семья Смитов, судя по всему, живёт за гранью нищеты. Все их дети вынуждены работать, чтобы просто не умереть с голоду.
Таким образом, 10 шиллингов — это примерно половина недельного заработка квалифицированного рабочего. Для них это огромная, неподъёмная сумма. Отсюда и паника «отца» и его попытка торговаться до 8 шиллингов.
Рекомендация бордо. Да, в викторианскую эпоху вино прописывали как лекарство. Но бордо — дорогущее французское вино. Врач, приехавший в трущобы к нищей семье, прописывает им бордо? Это как прописать безработному ипотечнику лечиться икрой и шампанским. Это показывает полное непонимание социальных реалий. Вы жертвуете логикой сцены и последовательностью действий ради создания нужных Вам социальных контрастов и драматического эффекта.
- Сколько стоило бордо? Бутылка добротного кларета в 1840-х могла стоить от 2 до 5 шиллингов и больше. То есть, одна бутылка прописанного "лекарства" могла обойтись семье Смитов в полгинеи или больше.
- Уместность: Рекомендация абсолютно уместна... для пациента из среднего или высшего класса. Для нищей семьи трубочиста - нет.
Фраза «мон шер ами», написанная кириллицей. Это не добавляет аутентичности, а только режет глаз. Читатель спотыкается, пытаясь расшифровать, что это значит.
Почему это проблема? Каждая такая деталь — это маленький кирпичик, из которых строится доверие читателя к твоему миру. Если кирпичики бутафорские, то и всё здание кажется ненастоящим.
Написание французской фразы кириллицей — "Мон шер ами" — вместо оригинального "Mon cher ami" — это худший из возможных вариантов. Он не дает ни аутентичности (которая была бы при написании на французском), ни удобства чтения (которое было бы при прямом переводе в тексте или сноске). Он создает у читателя ощущение дешевой подделки, бутафорской "французскости".
Как это можно было сделать?
Вместо бордо доктор мог бы посоветовать «крепкий бульон и глинтвейн» или хотя бы более дешёвый портвейн. Этого было бы достаточно, чтобы показать его снобизм, но это оставалось бы в рамках реальности.
Французские фразы либо пишите в оригинале («Mon cher ami») и давайте перевод в сноске, либо просто напишите по‑русски «Мой дорогой друг» и сделайте ремарку, что она сказала это по‑французски.
- Вариант для автора, который хочет блеснуть: Написать фразу на французском и дать перевод в сноске или в скобках сразу после. «— Mon cher ami... — прошептала девочка. — Мой дорогой друг...»
- Вариант для автора, который думает о читателе: Просто написать по-русски. «— Мой дорогой друг... — прошептала девочка...» И добавить ремарку: «...сказала она по-французски», если уж так важно подчеркнуть ее светское воспитание.
Использование транслитерированных французских фраз — это псевдоинтеллектуальный штамп, который не обогащает текст, а лишь демонстрирует неуверенность автора в своей способности передать "аристократизм" иными, более тонкими литературными средствами (через манеры, описание обстановки, построение диалога). Это дешевый ярлык вместо настоящей работы над стилем.
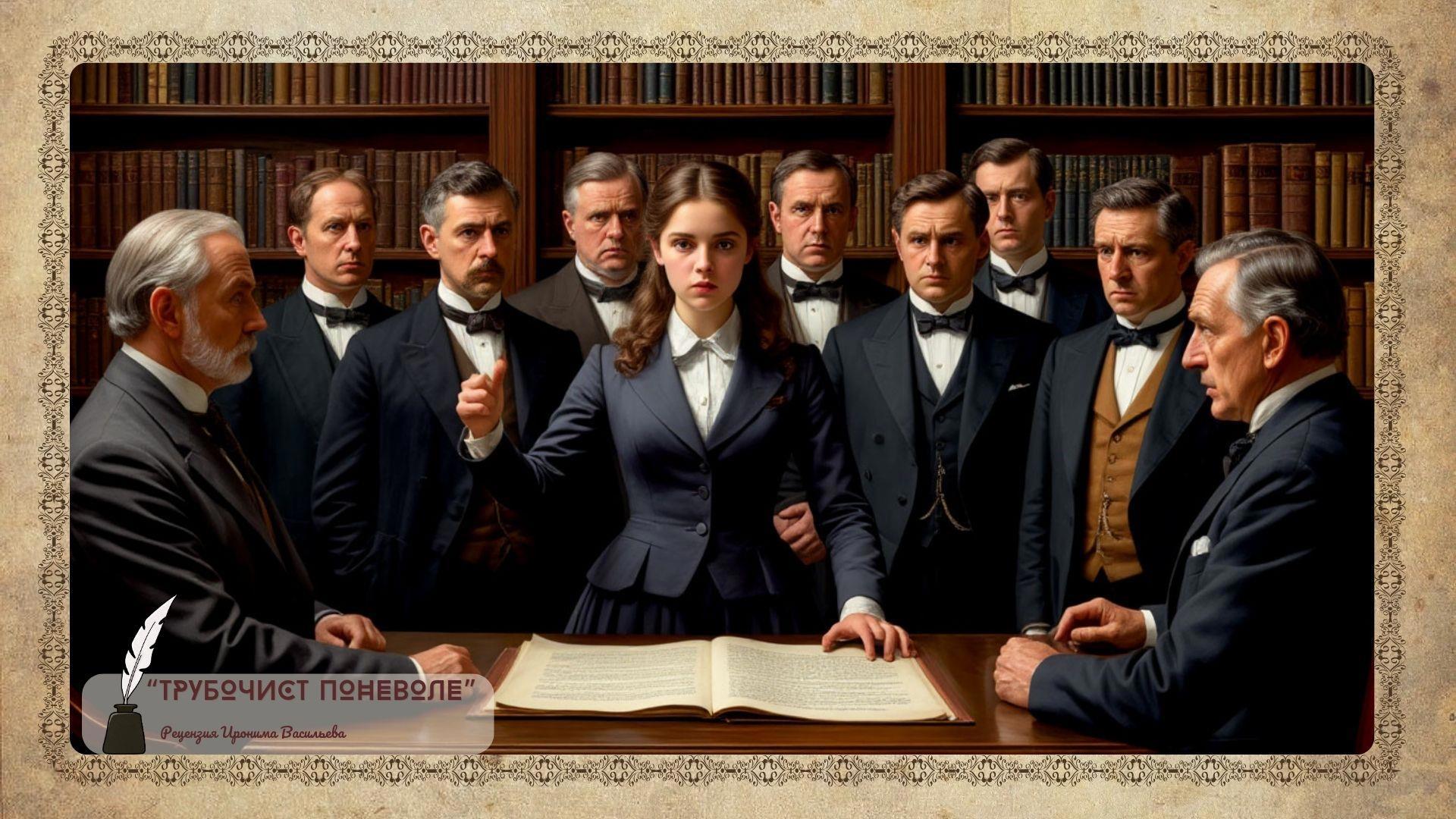
Резюме и итог.
Анастасия, не воспринимайте это как разнос. Как раз наоборот. Вы обладаете самым главным — фантазией и амбицией. Вы придумали захватывающую историю и сумели заставить меня дочитать её до конца. Амабель — это Ваша победа, великолепный персонаж! Ваша главная сила — в интриге и идее.
Слабость, которую я увидел, — это недостаточное погружение в эпоху и иногда излишнее желание подсказать читателю, что думать. Текст представляет собой хаотичный набор образов и псевдо-значимых сцен, лишенных внутренней логики, достоверности и смысловой наполненности, что не позволяет читателю воспринять его как целостную и осмысленную историю.
Что делать дальше? Очень простые шаги:
Погрузитесь в эпоху. Не только в большие события, но и в быт. Читайте Диккенса, смотрите хорошие исторические сериалы, изучайте викторианский сленг. Соберите коллекцию аутентичных слов и фраз.
Доверяйте своему читателю. Не объясняйте ему всё. Дайте ему самому собирать пазл, делать выводы из поступков и диалогов Ваших героев. Поверьте, он справится и будет тебе благодарен за это уважение.
Станьте своим самым строгим редактором. После того как написали сцену, спросите себя: «А поверила бы я, что реальный человек поступил бы так? А прозвучала бы эта фраза в 1840 году? Не тороплюсь ли я, не жертвую ли я правдоподобием ради красивого жеста?»
Эта книга — не провал. Это богатейший черновик, учебник по Вашим сильным и слабым сторонам. Вы проделали титанический труд, и теперь у Вас есть карта, куда двигаться дальше.
Вы можете. Осталось лишь добавить к Вашей фантазии немного профессионализма, и Ваша следующая книга будет тем самым историческим детективом, о котором Вы мечтали.
Удачи Вам!
