Рецензия на повесть «Три дня совершенства»

И снова здравствуйте, друзья!
В моей библиотеке сегодня уже привычное оживление. В кресле у камина, с блокнотом на коленях и выражением лица судьи на последнем праведном суде, сидит мой друг, литературный критик Ним. На столе лежит скромная, но многообещающая папка с заголовком: «Три дня совершенства» Эльмиры Биляловой. А из коридора доносится оглушительный звон посуды и шёпот, похожий на молитву, — это наша незаменимая Дарья Петровна проверяет, все ли ложки на месте, прежде чем мы приступим к обсуждению.
ИРО: Я, как всегда, восторженный читатель. Говорю образами и чувствами.
НИМ: А я, как всегда, скептик и аналитик. Буду разбирать эту повесть на молекулы.
ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (показываясь в дверях с мокрой тряпкой): А я, хоть и женщина необразованная, коли вы тут про совершенство да про министерские порядки собрались судить, я и своё слово вставить могу! Только дайте чайник с плиты снять, а то прикипит, как прикипел тот несчастный Патрик к своей беде, прости Господи!
Одна книга, три взгляда. Начинаем наш спор.
ИРО (сжимая книгу в руках): Ним, ты только вдумайся. Самый страшный звук в мире — не вой сирены. Это тихое шипение сканера, считывающего твою сетчатку, или ровный, лишённый эмоций голос, сообщающий: «Ваши биометрические данные подтверждены, а ещё… тихий шелест государственного конверта, скользящего по полу твоей квартиры в субботнее утро. Вот с этого всё и начинается! Тихий шелест государственного конверта, скользящего по полу твоей квартиры в субботнее утро. Вот с этого всё и начинается! С этой немой, казённой угрозы! И с первой мысли Патрика: „Я должен быть честным и справедливым. Сдержанным, но не безразличным. Внимательным, но не назойливым. Среднестатистичным“. Мне казалось, я сам стою на пороге того зеркального здания Министерства, где воздух стерилен, а стены отражают „бесконечное небо и идеальные ряды идеальных деревьев“. Эта стерильная тоска — она физически ощутима! Это же гениально! Ужас приходит не с воем сирен, а с вежливого голоса из телефона: „Гражданин Патрик Колин Пауэлл, вам предстоит выполнить приказ. Мир ждёт вашего примера. Помните, каждая ваша мысль, каждое действие будет скопировано миллионами репликантов. Ваша задача — стать идеалом, на который будет равняться новая раса. Вы были выбраны не случайно…“. Это не обещание, это — приговор.

НИМ (делая первую пометку): Начинаешь с атмосферы, как и ожидалось. Но позволь начать с фундамента. Аннотация играет на классическом страхе антиутопии: «человек‑винтик против системы». Мой первый вопрос: не слишком ли предсказуем первый акт? Письмо, здание‑зеркало, бесстрастные регистраторы, холодные медики, проницательный психолог… Это готовая сборная солянка из клише жанра. Читатель, знакомый с канонами жанра, долгое время движется по узнаваемым декорациям: героя‑винтика затягивает в жернова бесчеловечного министерства, он проходит череду тестов, а его попытка стать „идеалом“ закономерно ведёт к психологическому краху. Оригинальность — а она есть — прорастает лишь в самом финале, переворачивая смысл всей пройденной дороги.
ИРО: Предсказуем? Это не предсказуемость, это — ритуал! Тебя сознательно проводят через эти стерильные коридоры, через эти бесчеловечные процедуры, чтобы ты, как и Патрик, почувствовал себя лабораторной крысой. Чтобы ты тоже начал думать: «Всё это для них ничего не значит. Я для них — лишь набор данных». Это не недостаток, это — погружение! Когда медсестра с «точностью автомата» берёт у него кровь, а он, чтобы не видеть процесса, смотрит на безликий казённый потолок. Ты не читаешь, ты чувствуешь этот укол отчуждения вместе с ним!
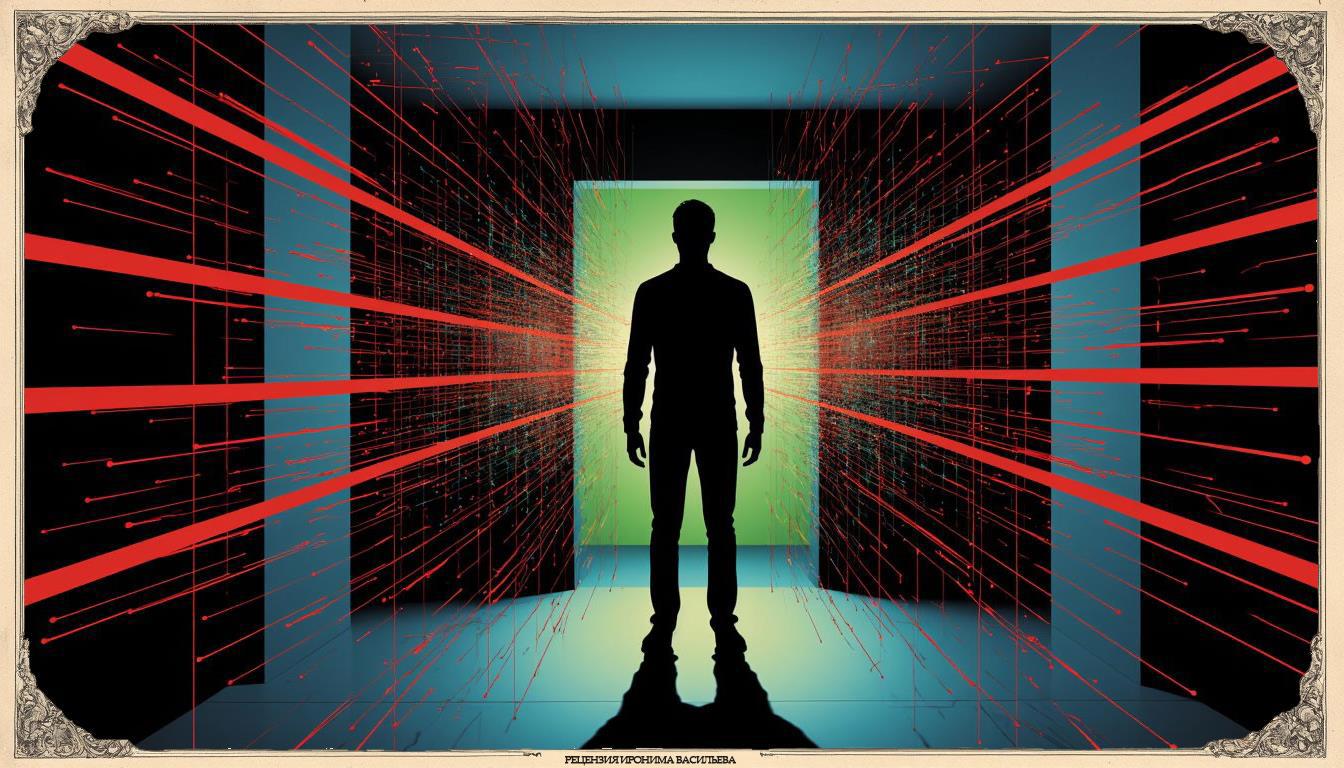
ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (внося поднос с крепким кофе и сушками): Лабораторная крыса, говоришь… Ох, знаю я этих «исследователей»! У нас в домоуправлении тоже один такой был, всюду с блокнотом ходил, всё записывал. Потом оказалось, он список на отселение составлял! Эта книжка ваша — она про то же! Сперва тебе вежливо улыбаются, бумажки подсовывают: «Подпишите, мол, согласие». А потом глядь — ты уже не человек, а «нейронный слепок». Кофий пейте, горячий. Согреет. Хотя как им согреться, если кругом один холодный мрамор да зеркала…
НИМ: Благодарю, Дарья Петровна. Оставим антураж. Перейдём к герою. Патрик Колин Пауэлл. Иро, твой восторг я чувствую кожей, но как критик я обязан спросить: не слишком ли его психологическое состояние передаётся «в лоб»? Страницы испещрены прямыми внутренними монологами: «Я боюсь», «Что, если я ошибся?», «Какой я дурак!». Это примитивный способ психологизма. Он не даёт читателю самому сделать выводы, он его постоянно тычет носом в очевидное. Где показ через деталь, через жест, через телесность?
ИРО: А ты представь себя на его месте, Ним! Ты стоишь перед массивными дверями министра, и у тебя в голове не осталось места для тонких жестов! Там горит одна‑единственная мысль: «Я не провалюсь. Я не провалюсь». Его монологи — это не авторская лень, это — запись внутреннего крика, который заглушает всё вокруг! Когда он бежит по дорожке, а датчики «улавливают каждое вздымание груди, каждый стон, каждое стискивание зубов», — разве это не телесность? Его паника — это не слова, это физиологическая реакция, которую считывают машины! А эти монологи — просто расшифровка того, что машины прочитать не могут: его душу, которую методично превращают в сырьё!

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (вздыхая): Душа‑сырьё… Самое страшное слово. У нас в деревне бабка одна была, знахарка. Говорила: «Береги мысли, они ценнее куска хлеба. Кто твои мысли соберёт — тот тобой и будет править». А тут целое министерство их собирает! Такой гадости и в голову не придёт! А этот Патрик… бедолага. Весь издёргался, как щенок на морозе. И ведь чувствовал, чувствовал подвох! Да только против системы не попрёшь. Её, как ржавчину, не выскоблишь.
НИМ: Допустим, с прямой передачей паники я согласен как с художественным выбором. Но перейдём к развязке. Идея, которая должна была стать главным ударом, подаётся слишком прямолинейно. В финале нам устраивают целую лекцию, где один персонаж другому подробно объясняет все расставленные автором ловушки и истинные замыслы. Это классическое «разоблачение монологом», драматургически слабый ход. Вместо кульминационного удара читатель получает объяснительную записку, которая гасит всё напряжение, как ведро воды на тлеющие угли. Почему истину нельзя было раскрыть через действие, через ужасающее озарение самого героя, а не через объяснительную речь «злодея»?
ИРО: Нет, Ним, ты не прав! Этот финальный монолог — не слабость, а самая сильная сторона! Ты говоришь «лекция», а я слышу холодный отчёт системы, доводящий абсурд до логического конца. Весь ужас не в том, что там сказано, а в как и когда! После всех мучений героя, после его сломанной воли — эта леденящая, протокольная констатация и есть кульминация. Это не «сдувание» напряжения, это — его перевод в абсолютно иное, нечеловеческое качество. Зло, которое даже не считает нужным скрываться или злорадствовать, а просто констатирует факт и отдаёт следующий приказ — это и есть настоящий, беспримесный ужас антиутопии. Ты ждёшь взрыва, а получаешь тихий щелчок затвора. Вот в чём сила этой сцены!
НИМ: Хорошо, допустим, эмоциональный удар есть. Но мир вокруг! «Сектор 25», «Объединённая коалиция». Это пустые ярлыки. Мы не видим, как эта система живёт, дышит, давит на всех. Мы видим только её частный эксперимент — Патрика. Мир за пределами Министерства прописан условно, он не чувствуется. Не кажется ли тебе, что это обедняет антиутопию, превращает её из картины общества в историю одного камерного кошмара?

ДАРЬЯ ПЕТРОВНА (вмешиваясь, присаживаясь на краешек табуретки): Камерный, говоришь… А по‑моему, так даже страшнее. Когда не видишь всей тюрьмы, а сидишь в одной камере под лампочкой — так она, зараза, в сто раз ярче слепит. Эти прохожие в парке, которые ему «судьями кажутся», эта официантка с мягким взглядом — они и есть тот самый мир! Они — норма, на фоне которой его безумие видно как на ладони. Он сходит с ума не в вакууме, а среди их всех, таких обычных. Это ж каждому читателю вопрос: а ты, милок, уверен, что твоя нормальность — не плод чьего‑то эксперимента? Мало ли что там у них в секторах да коалициях выдумывают!
ИРО: Именно! Дарья Петровна, вы гениально уловили суть! Мир «снаружи» в этой повести нарочно размыт, приглушён, как в его сознании после сканирования. Потому что фокус — не на системе, а на её жертве. На том, как один, самый обычный человек, ломается под её давлением. И этот личный, интимный кошмар страшнее любой масштабной картины апокалипсиса. Он показывает: чтобы создать ад, не нужно сжигать города. Достаточно выбрать одного человека и методично уничтожить в нём всё человеческое.
НИМ (медленно закрывая блокнот): Что ж, Иро. Ты, как всегда, защищаешь книгу с фанатизмом истинно верующего. Мои претензии к некоторой вторичности антуража, прямолинейности психологизма и условности мира остаются. Это крепкая работа для начинающего писателя, демонстрирующая понимание жанра, но не предлагающая в нём ничего нового. Однако… я вынужден признать силу её главного удара. Автор, Эльмира Билялова, блестяще выстроила дугу психического распада и нанесла тот самый финальный, подлый удар, который заставляет переосмыслить всю прочитанную историю и вскрывает истинную, леденящую механику системы. Она заставила меня, скептика, по‑настоящему содрогнуться.
ИРО: Значит, перемирие? «Три дня совершенства» — это не просто ещё одна антиутопия. После неё ты возвращаешься в свою «среднестатистичную» жизнь и ловишь себя на мысли: а не наблюдает ли кто‑то сейчас за тем, как я наливаю утренний кофе? И главный вопрос звучит уже не пафосно, а по‑звериному честно: «А что, если твоё стремление быть лучше, быть идеальным — это всего лишь сырьё для чьего‑то страшного проекта?» И нет ответа. Есть только тишина, в которой, кажется, слышно тихое жужжание сканирующего устройства.
НИМ: Перемирие. С оговорками. Автор показала умение выстраивать напряжение и работать с ключевой для жанра темой — разрушением личности. Теперь дело за оттачиванием оригинальности, глубины второстепенных миров и более изощрённого психологизма. А нам, друг мой, пора допить наш уже остывший кофе.
В дверь бесшумно входит Дарья Петровна. В руках у неё старый конверт с потёртой сургучной печатью. Лицо её абсолютно бесстрастно, как у регистратора из Министерства.
ДАРЬЯ ПЕТРОВНА: Родимые… Я в коридоре прибиралась. За шкафом этот конвертик нашла. Лежит, пылится. На нём ни имени, ни адреса. Только печать какая‑то… зеркальная. И шелестит он, как сухие осенние листья. Или как пластиковый лист в конверте государственном… Вы уж извините, я, пожалуй, его в печку. Без чтения. Мало ли чего. Всякое, говорят, в таких конвертах бывает. И нервы потом не у всех выдержат, как у того Патрика.
Она поворачивается и уходит, держа конверт за самый уголок, как будто он радиоактивен. Ним и Иро переглядываются. Тишина в библиотеке стала иной — напряжённой, подозрительной, полной невидимых датчиков. Именно такой, какая бывает в идеально чистой комнате, где каждое твоё движение уже где‑то записано, проанализировано и ждёт своего часа, чтобы стать… частью чьего‑то неизвестного тебе проекта.
