Рецензия на роман «Женская верность»
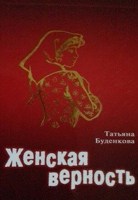
Только по одному заголовку перед глазами начали выстраиваться версии повествования. Скорее всего, любовный роман, ведь первой ассоциацией была все же супружеская верность, и только после этого — верность присяге или Родине, или...
И почему именно «женская»?
Три стареньких женщины «сидят рядком и говорят ладком». Вот, значит, кто и стал главными героями романа. Скорее всего, мы будем перелистывать страницы их жизни, начиная с молодости, а кто его знает, может, и с рождения. Интересно ли читателю заглядывать в замочную скважину, чтобы подсмотреть, как же живут другие люди? А вот посмотрим! Раз и предоставлена нам такая возможность!
На самом деле оказалось даже не так. Три женских образа — сестер Устиньи и Акулины, а также их соседки Татьяны (Портнягиной, потому что будут и другие Татьяны!) как цемент, связали фундамент романа. Более того, с их благословения автор вплел в повествование судьбы их близких — мужей, детей, друзей, а дальше — внуков... Так что получилась целая эпопея. Огромное поле, вспахивая которое, открываются глазам переплетенные корни растений, среди которых уже трудно определить первичные. Каждый пласт пашни — это не отдельно взятые эпизоды из жизни одного или нескольких героев, а сотканное из них цельное полотно.
Откуда идут эти корни? От матери Прасковьи Родкиной. А если копнуть еще глубже? Неужели от самой боярыни Морозовой?
Внешний мир. Он поперечными нитями — уток, переплетается с основными — образами главных героев. И потому этот мир состоит не из статичных картинок, а из живых, пропущенных через восприятие людей, которые в нем и находятся.
Перед тем моментом, когда к молодой Акулине подойдет первый кавалер — Тимофей, и потому она не замечает, что происходит рядом:
Сумерки становились всё гуще. Темнота растекалась в ветках яблонь у домов, погружая деревню в ночную дрёму.
Тимофей шагает по дороге, сраженный известием о болезни первенца:
Пыльная просёлочная дорога бесконечной лентой уходила к горизонту.
Устинья, окрыленная мыслью о переезде, а значит, и о более счастливой жизни:
Устинья шла домой и вдруг неожиданно для себя почувствовала, как шёлком стелется трава под её босыми ступнями, как тянет лёгкий запах берёзового дыма от топившихся бань, подняла голову и увидела какое бескрайнее небо над головой, каким пожаром горит закат!
И даже времена года ведут себя как предметы одушевленные:
Зима уже вовсю мела метелями и стучала в окна морозами;
Осень шелестела на деревьях тонким листовым золотом.
В романе много предметов обихода, которые вонзаются в память да так и остаются там. Вот такое качество есть у автора — создавать маленькие «иголочки», будоражить воображение читателей. Среди них, например, сундук, «отмыкают» (именно отмыкают!) который ключом с вензелями, после чего он издает мелодичный звон. А есть серебряный портсигар еще с войны. В него складывают денежные купюры для «заначки» и еще — передают такое сокровище (конечно же, уже без денег — их век недолог!) по наследству. Есть аккордеон, о котором можно написать поэму! Есть даже «пропавшие окуньки», которых мы вообще не видели, но — помним о них, захлопнув книгу.
А платье? О! Это — особая тема, потому что далеко не у каждой женщины было такое платье. Вот по воспоминаниям моей бабушки и мамы у них тоже было платье (пишу в единственном числе, потому что скорее всего, оно было одно — конечно же, у каждой)!
Образы героев выполнены не яркими красками, а полутонами, причем, больше описаний не о том, как выглядят эти люди, а как у них складывается жизнь:
Как коса из трёх прядей, сплелась её жизнь из этих трёх ночей. Сплелась и завязалась в тугой узел.
Стиль соответствует месту и времени, он выдержан как в прямой речи:
— Устишка, энто у нас и яблоки, и ягода в Покровском растуть, а мы повидлов не видали,
так и в рассуждениях:
Вдруг Тимофей раненый али как ещё приедет в деревню, а её не будет? И она ответила, что вот когда придёт конец войне и пройдёт полная демобилизация, то тогда и видать будет. А пока тут ей сподручнее искать Тимофея.
Ошибки и опечатки отмечать вообще не буду, потому как во-первых, их очень мало, а, во-вторых, они где-то даже гармонично сливаются с местным диалектом, так что даже если где-то в корне вместо «о» — «а», а окончание — как будто бы неправильно просклоняли слово — это не раздражает и не вызывает беспокойства о чистоте русского языка. Вот такая «балачка»! Как говорю — так и пишу! Автору — респект! Такой большой текст выдержан в едином стиле!
Итак, общее впечатление о романе. Он непростой. Хотя и написан о самых простых людях, о сельчанах и о горожанах. Скорее всего, не вся читательская аудитория воспримет его «на ура», да и вообще — будет читать. А что тут поделаешь? Такая судьба уготована произведениям практически всех жанров. Как говорится, на вкус и цвет...
Лично я не испытываю удовольствия, когда листаю страницы горьких судеб людей, которые не живут, а влачат существование, тянут лямку как бурлаки, надрываясь не только физически. И только единицы пытаются сделать решительный шаг, чтобы вырваться из этого замкнутого круга, но даже тогда испытывают чувство вины (семьи, которые переехали из деревни в город; женщина, которая стала любовницей директора). В этой серой беспросветной тоске есть, конечно же, и минуты радости, но в целом люди несчастливы. Как будто бы уже с рождения обречены на нищету и потому лишены качеств, присущих самодостаточным, преуспевающим людям. И приходит навязчивая мысль о том, что досталось им все в этой жизни очень маленькое: и место под солнцем, и даже — самая узкая психология мышления.
«Подглядывать в замочную скважину» за этими людьми очень тяжело. Однако я вовсе не утверждаю, что авторы не должны писать об этом. Нет! Но... еще далеко не каждый писатель сможет это сделать. Вот я бы не смогла.
