Получил рецу от Павла Виноградова на "Облако возмездия"
Автор: Геннадий Тарасов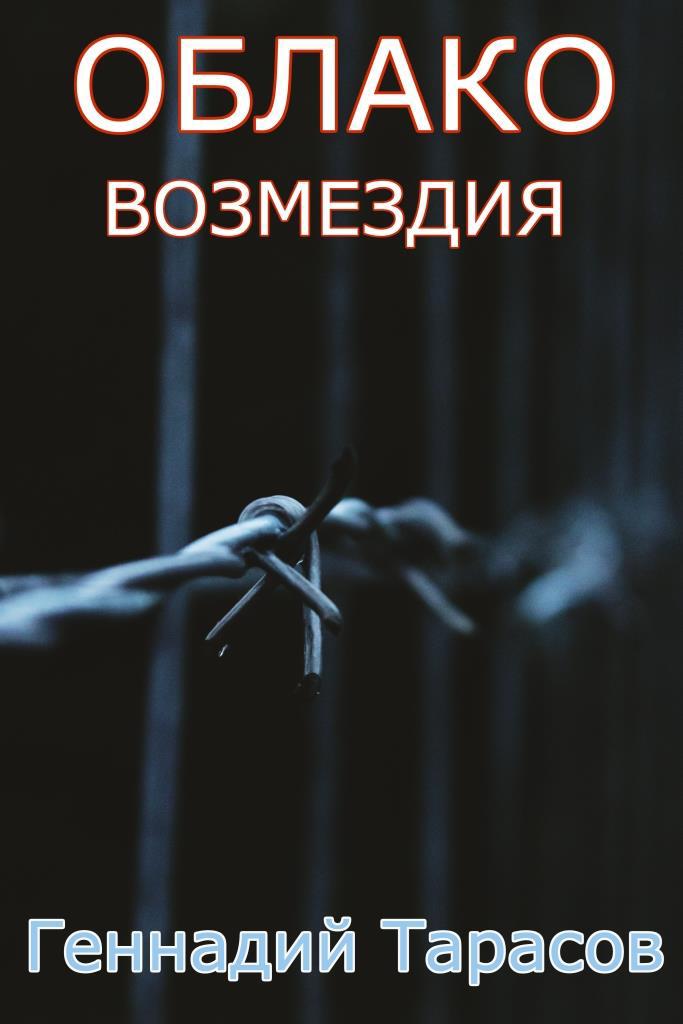
Пленники бункера печального зла
Роман оставляет крайне сложное, двоякое послевкусие – и по содержанию, и по структуре: прежде всего потому, что чётко распадается на две непохожие друг на друга части. Однако его начало меня однозначно порадовало – хотя бы из-за многочисленных приятных литературных ассоциаций, в основном из сферы магреализма: «Дьяволиада» Булгакова, «Понедельник начинается в субботу» и «Гадкие лебеди» АБС, «В ночь с пятого на десятое» Михаила Успенского…
Персонажи с несколько странными и порой говорящими именами. Описание бюрократических танцев, вроде бы вполне привычных и узнаваемых, но местами неуловимо переходящих в откровенную чертовщину. Узкая «интеллигентская» тусовка в замкнутом пространстве, со своими ритуалами и разборками. Тоскливые реалии провинциального российского городка под многозначительным названием Загубинск, которые, опять же, незаметно и для персонажей, и для читателя переходят в какую-то сумасшедшую фэнтезятину…
То же касается и интерьеров – в данном случае провинциальной гостиницы, под которую замаскирована мистическая Мань-гора (надо думать, это не реальная гора с таким названием в Коми, хотя та тоже овеяна таинственными легендами). Но загубинский отель «Люкс» напоминает и «нехорошую квартиру» Булгакова, и НИИЧАВО Стругацких, и грандиозное чёрномагическое здание Успенского, а то и страшный отель «Оверлук» Стивена Кинга.
Это касается первой части, в которой фокал сосредоточен на успешном сетераторе и чемпионе-покеристе Феликсе Нетрое – грузном и склонном к сибаритству мужчине. И в первой части он однозначно воспринимается главным героем – со всеми вытекающими для читателя последствиями.
Однако во второй части фокал перемещается на Лауру ака Лимбо – успешную «блогерку» и, как потом выясняется, гениального хакера. И вторая часть по настроению и содержанию разительно отличается от первой. В том числе и перенесением полномочий главгера на Лауру, Нетрой же при этом оказывается антагонистом, да чуть ли и не злодеем.
Да, автор намекает на такое развитие событий ещё в аннотации:
«Роман-перевертыш, в котором не сразу разберешь, кто есть кто. Кто герой, кто антигерой. Кто сильный, кто послабее. А кто вообще никто».
Замысел понятен, однако получилось не сказать, что очень убедительно. Передача событий с точки зрения разных людей, которые порой противоречат друг другу – традиция давняя и почтенная, ещё с викторианской литературы, например, романов Уилки Коллинза. А современный тренд такой форме задал Акутагава Рюноскэ новеллой «В чаще», экранизированной Акиро Куросавой. Однако у того же Коллинза мы с самого начала прекрасно понимаем, кто тут прото-, а кто антагонист – несмотря на то, что видим историю с точки зрения и того, и другого. У Акутагавы, правда, такой ясности нет, но у него была и другая задача – показать относительность истины и личного восприятия вообще.
Такой приём называется «ненадёжный рассказчик», но он, как и любой литературный приём, имеет свои правила. Одно из них – давать читателю возможность самому оценить степень этой «ненадёжности». К примеру, в романе Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда» почти до самого конца не раскрывается, что помощник детектива, от имени которого ведётся рассказ, и есть убийца. Однако писательница ввела в текст достаточно намёков, чтобы внимательный читатель если и не понял, то, по крайней мере, заподозрил истинное положение дел.
А вот в «Облаке возмездия» этого просто нет. Феликс Нетрой, глазами которого мы следим за началом истории, предстаёт в свете довольно благоприятном. Да, он несколько сноб, проявляет определённое высокомерие к окружающим – но при его многочисленных талантах и успешности такая слабость если не простительна, то объяснима. Он обжора, не дурак выпить и явный бабник. Его высказывания по поводу литературы довольно-таки циничны:
«Я пишу легко и непринужденно, практически не задействуя голову».
Или:
«Я как переполненный сливной бачок, сколько раз за ручку протянешь, столько романов и получишь».
Однако подобные высказывания свойственны и многим великим писателям. Сравните вот, например, последнюю цитату с фразой Роберта Ансона Хайнлайна:
«Писательства не обязательно надо стыдиться. Занимайтесь им за закрытыми дверями – и вымойте потом руки».
Однако по мере развития истории читатель проникается убеждением, что Нетрой умён и отнюдь не бездарен. У него внимательный, всё подмечающий взгляд настоящего писателя и крайне развитая интуиция, при помощи которой он способен воспринимать и анализировать даже самые невероятные вещи, происходящие вокруг него в мистическом Загубинске. Он полностью отдаётся своей работе и, очевидно, горячо её любит. И он совсем не трус – не боится противостоять и местному гопнику, и даже двум вооружённым автоматами бандитам.
Короче, читатель если не проникается к нему симпатией, то сопереживает. Но вот во второй части фокал стремительно перескакивает на Лауру-Лимбо – ту самую девушку, которую Нетрой благородно спас от хулигана. Теперь мы наблюдаем события с её точки зрения, и наше их восприятие меняется кардинально. Наиболее разительную метаморфозу претерпевает образ Нетроя. Из довольно симпатичного и уверенного в себе дядьки он превращается в крайне непривлекательную личность.
Он тупит и истерит, как взбалмошная дамочка, сразу же охотно вступает в коллаборацию с тёмными силами, лелеющими злодейские планы в отношении человечества, самооправдываюсь при этом не только цинично, но и довольно глупо.
И он… зверски насилует героиню, эту самую Лимбо. Которую, на минуточку, в первой части благородно защитил. Этот ход настолько шокирует и выбивается из общего повествования, что потом всё время ждешь, что это была какая-то иллюзия «матрицы» или нечто в этом роде. Но нет, всё взаправду.
Не говоря уж, что позже выясняется: это отнюдь не первое подобное деяние Нетроя, и даже литературой он занялся не из-за писательского зуда, а потому что его выгнали из богатой нефтяной конторы после изнасилования им коллеги. И всё это полностью противоречит сложившемуся у читателя образу.
Я не хочу сказать, что подобный твист вообще недопустим – всё допустимо. Но подвести к нему следовало гораздо тоньше. Хотя бы, как упомянутая Агата Кристи – рассыпать по первой части намёки на то, что дело обстоит вовсе не так, как кажется. Но таковых нет. Или я их не заметил, что тоже плохо – читатель должен такие вещи видеть, даже если думает, что они скрыты. А вот как это сделать – вопрос писательского мастерства.
Главное же, что мы слишком долго воспринимали историю через Нетроя, который оказался на самом деле если не злодеем, то крайне отрицательным персонажем. А это очень неприятно, поскольку, повторюсь, мы уже вовлечены в сопереживание ему. На этом психологическом эффекте построены, к примеру, американские телесериалы «Декстер» или «Ты», в которых зритель следит за основными персонажами, видит мир их глазами и невольно начинает им сочувствовать – хотя не должен, поскольку те серийные убийцы и маньяки… Разница в том, что создатели сериалов такого эффекта добивались изначально, а вот автор «Облака возмездия» – вряд ли.
С другой стороны и однозначно положительная главгерша Лимбо, которой автор явно искренне сочувствует, производит не слишком благоприятное впечатление. Она ещё более самоуверенна и высокомерна, чем Нетрой, презирает мужчин, считая их никчемными. При этом на контролируемую тёмными силами заброшенную военную базу попадает именно из-за того, что следует за писателем, который ей нравится.
Разумеется, этот интерес сходит на нет после изнасилования, а Лимбо пользуется своими женскими чарами, чтобы соблазнить юного зомбированного «матрицей» Генри и удрать.
Проклятия мужчинам в её внутреннем монологе настолько часты и навязчивы, что я сначала принял это за авторский сарказм, но в конце концов решил, что это случилось из-за перебора при воссоздании мужчиной «женской психологии». Это же касается столь же навязчивого педалирования «женских проблем», вроде месячных.
Мотивация же мужененавистничества ГГ настолько банальна, что сводит скулы: разумеется, в юности она была изнасилована отчимом. Твист в современной поп-культуре столь же заезженный, как, например, разлучённые в детстве братья в индийской киномелодраме.
Однако к финалу Лимбо – при помощи «призрака» некоего полковника, совершает героический подвиг, взрывая базу тёмных сил вместе с населяющими её зомби. Которые, впрочем, на самом деле были хорошими, душевными парнями.
При этом происходит зашкаливание «мэрисьюшности» героини, которая не только махом разбирается в плане базы ЯО и пробирается в её сердце по заполненным водой и мокрицами тоннелям, но и в считанные минуты собирает взрывные устройства, и закладывает их в нужные места. Позвольте, она же просто продвинутая в пользовании интернетом девушка, пусть даже хакер! Но это ей в такой ситуации никак не поможет.
В общем, и этот протагонист носит черты антагониста. Наверное, автор это сознаёт. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что эпизод, в ходе которого Лимбо видит «главгада» Пырю – «интерфейс» коллективной личности адских жителей, в виде «еврея-цэцрэушника Сола», это как раз и есть отсылка к такого рода персонажам. Кажется, речь тут идёт об одном из главных героев «Родины» - американского шпионского сериала в «параноидальном» стиле. Этот Сол позиционируется там как «хороший парень», но при этом совершенно аморален и совершает множество отвратительных поступков.
Возвращаясь к сюжету второй части, он вообще переполнен малообоснованными коллизиями
(к примеру, излишне сложный и хитроумный план Малецкого по похищению Нетроя)
, а также «роялями в кустах» и «богами из машины». Да, для фантастики такое вполне допустимо, но в данном случае налицо явный перебор. Вообще у меня впечатление, что автору слишком часто и по многим параметрам изменяет чувство меры.
Разительно отличаются части романа также по антуражу и настроению. В «повести Лимбо» нет уже никаких Булгаковых-Стругацких (хотя определённые отсылки к Зоне АБС всё же имеются). Она напоминает, скорее, мрачный апокалипсис, вроде «Противостояния» упомянутого Кинга или малоизвестного, но отличного романа Светланы Рыжковой и Александра Уралова «Псы Господни». Адские силы прорываются в человеческий мир и захватывают плацдарм в современной России, а попавшие в этот «бункер печального зла» герои пытаются при помощи своих слабых сил разрушить адские козни. Впрочем, «криповый» антураж разбавлен в паре мест сюрреалистическими галлюцинациями в духе кэрроловской Алисы, с которой автор явно рифмует свою героиню.
Всё это тоже интересно, но при этом в песок уходит вся линия отеля – Мань-горы, а также Нетроя, буквально обрывающаяся на полуслове. Как и линии других интересных персонажей, вроде «двойной» администраторши гостинцы
– то ли языческой богини, то ли демонессы, с которой у Нетроя возникли романтические отношения
. И это очень обидно, потому что вот эта часть романа оригинальна, стильна и интересна.
Прерываются бесследно и линии ярких третьестепенных персонажей, вроде Елистрата Дролова. А другие, хоть и возникают в конце, но так и остаётся неясным, зачем они вообще были введены, как например, сексапильная проводница. Остаётся также множество неясностей, например, в отношении родного отца Лауры.
Чувство меры иногда изменяет автору и в стилистике, хотя встречаются куски текста с очень сильными метафорами:
«Нетрою казалось, что они находятся внутри елочной игрушки, огромного зеркального шара с блестками, за тонкими стенками которого взлетали салюты и вспыхивали прожектора».
Или:
«Это был укол ужаса, резкий, короткий, точно удар стилетом под лопатку».
Однако другие такие описания слишком витиеваты и многословны:
«При том, что девушка старалась идти по лестнице боком, отводя сокровище анфас к стене, это нежное, мягкое, пухлое обжимало, оглаживало само себя, взаимодействовало, словно две смачные оливки, так что воображение мужчины в самом расцвете сил немедленно распалилось».
А другие пошловаты и почти комичны:
«Холод, справившись с застежкой на спине, резко просунулся вперед, под лифчик, и облапил грудь плоскими мерзлыми лапами, и пощипал за соски, отчего они скукожились и задребезжали, зазвякали, как серебряные бубенцы».
Тяжеловесны и ненатуральны многие диалоги, особенно у «зомби» из бункера:
«Я ностальгирую по молодости, по тому времени, что ушло безвозвратно, когда все было, и было доступно, только пожелай. Что поделать, Парамоша, хочется снова почувствовать себя живым».
Возможно, таким образом автор добивался ещё большей «стильности», но выглядит это опять перебором.
Многие диалоги вообще слишком длинны и малоинформативны. Чересчур обширны также некоторые экспозиции, сами по себе необходимые. Особенно же заунывно запутаны «мировоззренческие» рацеи, обильно произносимые персонажами. Причём эти положения повторяются не один и не два раза – словно с первого читатель их не воспримет. Но ведь речь идёт не о Бог весть каких оригинальных и новаторских категориях, а о вполне известных и не раз обыгранных в литературе и кино идеях. Вроде той самой злокозненной «матрицы»:
«Матрица – тоже Бог, только другой. У него иные принципы, и он совсем не милосердный, каким мы желаем его видеть. Но и не жестокий. Он – неумолимый. Матрица – Бог, которого святой дух или не посетил, или уже покинул».
А то задействуется и устаревшая ещё века полтора назад пессимистическая философия на основе вульгарного материализма:
«– Человек – химера? Я не ослышался?
– Нет, не ослышались, химера и есть. Высота души и низость физиологии – природа до этого не додумалась бы, соединить полюса. Только чей-то извращенный ум мог придумать совместить несовместимое. Или безалаберность. Сунули сознание в первый подвернувшийся подходящий сосуд, и забыли. А потом – глядь! – а оно прижилось».
Плюс гностическое мироощущение, ассоциирующееся с символом Уробороса, а также неуместные, по моему мнению, отсылки к Евангелию: «Спаситель мертвых».
Местами ощущается перехлёст и в гротескности – когда она переходит в ёрничество. Например, удачный, в принципе, персонаж – коварный резонёр Пыря, частенько сбивается на какую-то пошловатую дребедень. Которая ещё, почему-то, уснащена характерными выражениями Владимира Путина…
Однако мне не хотелось бы создавать впечатление, что разбираемое произведение плохое. Совсем наоборот – оно хорошее. Вернее, я бы сказал, это два хороших, но незавершённых произведения, механически объединённых под одной обложкой. Надеюсь, автор продолжит-закончит хотя бы одно из них.
