За что я хотела бы поблагодарить Джона Труби
Автор: Branwena LlyrskaДля начала короткая справка: Джон Труби — американский сценарист-консультант, преподаватель сценарного мастерства и автор учебника для писателей и сценаристов «Анатомия истории». У книги ещё есть подзаголовок, который, как всегда, неточно и, на мой взгляд, немного пошловато переводят. На самом деле она называется «22 Steps to Becoming a Master Storyteller». То есть «22 шага к превращению в мастера-рассказчика». И ни слова про «успешный сценарий». В общем, книга полезна писателям ничуть не меньше, чем сценаристам, но точно не штамповщикам «продающих» сценариев.
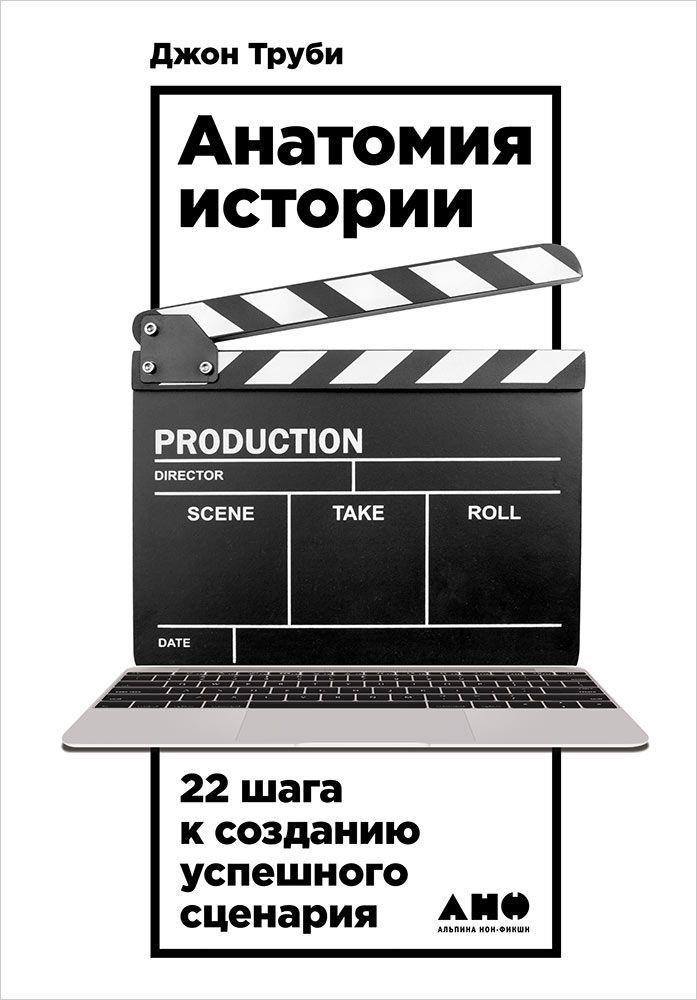
И вот за это я искренне благодарна мистеру Труби в первую очередь. Потому как прямо перед тем, как взять в руки его замечательную книгу, я читала другой популярный «учебник» от некого самоуверенного и, на мой взгляд, несколько узколобого господина (не надо спрашивать, почему я такой бедный, если такой умный) под названием «Спасите котика». Нет, не скажу, что учебник оказался полностью негодным, кое-что полезного я из него всё же извлекла — например, как написать аннотацию и... И, как написать аннотацию. Но в остальном... В общем, дойдя до середины, я поняла, что книга меня дико бесит своим благоговением перед коммерческим успехом и настырным навязыванием набивших оскомину штампов. И вот... Я бросила эту «библию продавца сценариев» и переключилась на «Анатомию истории».
И, можно сказать, влюбилась в неё с первых страниц! Во многом и благодаря тому, что Джон Труби с самого начала в пух и прах разносит именно эту пресловутую трехактную систему сценария, как закостенелую и мертвую (ну или там были немного другие эпитеты, но что-то похожее), и обещает не загонять читателя в тесные рамки какой-либо схемы вообще. Ну и, по большей части, держит слово.
Однако при этом его книга — и не подборка пространных размышлений о писательстве, размытых идей, абстрактных принципов и редких спонтанных озарений. Это — вполне чёткая и доходчиво изложенная система, и, что оказалось приятнее всего, пользующаяся в основном знакомыми и близкими мне понятиями: идея, конфликт ценностей, проблема, тема, сверхзадача и сверхсверхзадача. Нет, называет он их иногда по-другому, но суть от этого не меняется. А то, что автор руководства понимает, что в основе любой хорошей истории должна лежать, как это говорили во времена моей студенческой юности, «гражданская позиция», или попросту нравственные ценности автора, сразу пробудило у меня доверие к его книге.
Итак, для начала порядком освежив мою память по части режиссуры и драматургии, мистер Труби также познакомил меня с несколькими базовыми понятиями, без которых я теперь себя просто не представляю. И, как я уже упоминала, в основе его системы лежит замечательное понятие «психологической» и «нравственной нужды» героя, а также «нравственного озарения». Что это значит? В общих чертах: у героя истории, как известно, должны быть не только достоинства, но и недостатки. И, по сути, их преодолению и посвящён его путь. Необходимость преодолеть недостаток Джон Труби называет «нуждой». Но фишка в том, что желание, цель и нужда героя — не есть одно и то же. Желание он, в большинстве случаев, осознаёт, цель — тоже. А вот нужду, до определенного момента, нет. В особенности если это нужда нравственная, а такую нужду Труби ставит значительно выше психологической. Как их различить? — Да очень просто: нравственная нужда связана с нравственным пороком, свойством героя, по вине которого он причиняет боль окружающим. Не себе, а другим. И не просто неудобства, а настоящую боль. Да, братцы мои, то, что он — ваш положительный герой, не отменяет необходимости раскрыть его нравственную нужду. Он может быть прекрасным отцом и добропорядочным гражданином, но, к примеру, похаживать «налево». Или регулярно хамить тёще. Или не возвращать долги друзьям. Нет, «хороший и положительный, но боится пауков» не катит. Если, конечно, пауки-мутанты не захватили его планету и из страха перед пауками он не предаёт товарища. К примеру. В общем, задача писателя — медленно и убедительно подвести героя к осознанию собственной нравственной ущербности и помочь её преодолеть. Ну, или позволить потерпеть поражение на этом пути. А всё остальное — уже, как бы, сопутствующие этой задаче вещи.
Вот с чем я не могу согласиться (может быть, я не права, но мне так видится), так это с тем, что нравственное озарение героя должно происходить перед самой развязкой истории. Всё-таки, мне кажется, от озарения до преодоления — большой путь, и одного озарения недостаточно для того, чтобы перестать быть негодяем. Так только в сказках бывает: дракон заплакал и сказал, что больше никогда не будет есть девственниц, и с тех пор был добрым и пушистым.
Ну а ещё я хотела бы сказать отдельное спасибо Джону Труби за чёткое определение сути и роли символов в произведении. Именно благодаря этому я наконец смогла выбрать правильное, на мой взгляд, название для своего романа. Опять же, если вам лень читать книгу Труби (хотя она более чем стоит прочтения!), то, по его словам, символ должен воплощать в себе главную эмоцию, которой вы хотите поделиться с читателями. Вот так просто!
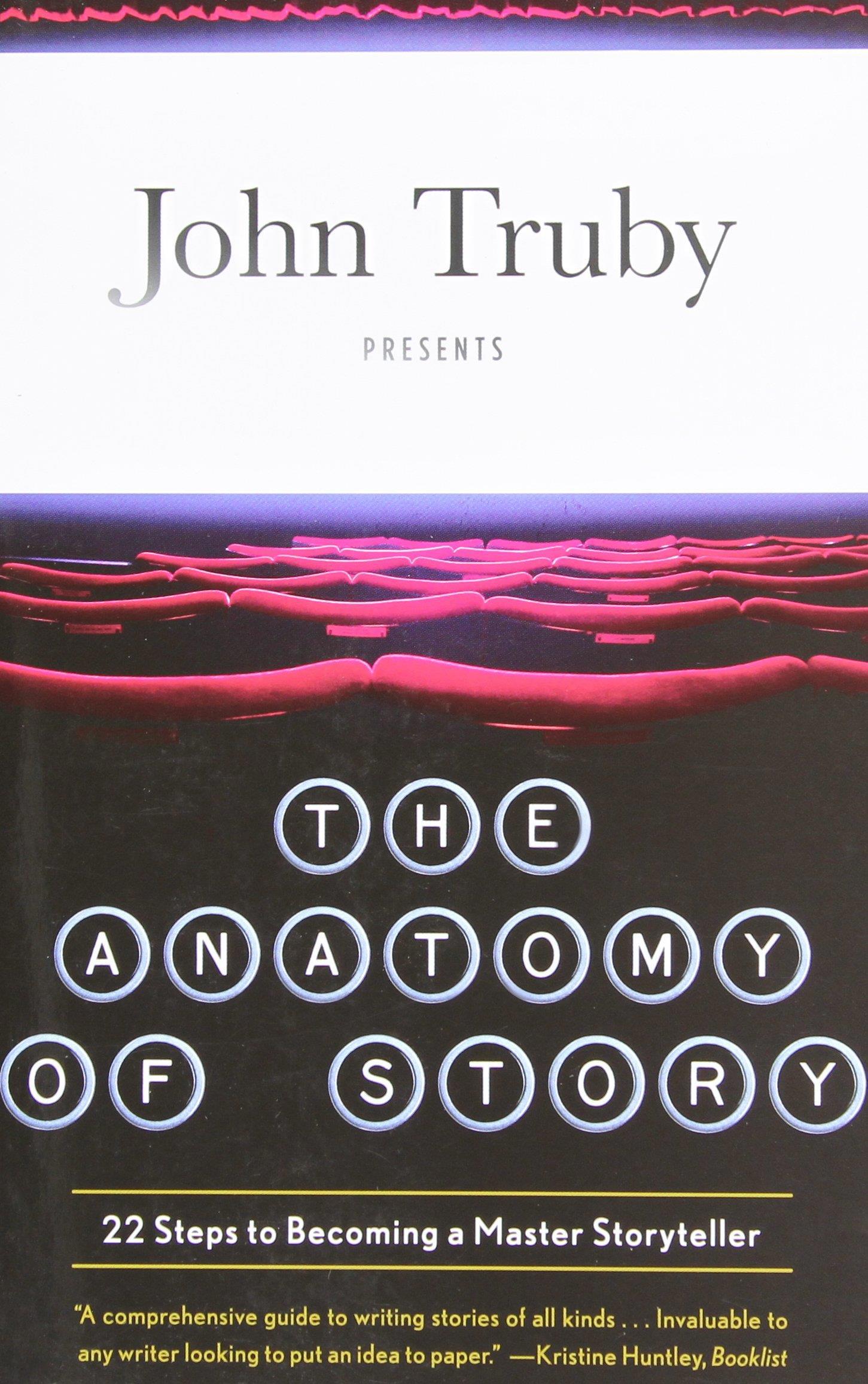
Ах да, и, быть может, самое главное. Джон Труби всегда повторяет: прежде, чем писать историю, определитесь — как она изменит вашу жизнь? Чему она вас научит? В чём сделает вас лучше? Если такая вещь есть — пишите историю. Даже если её никто и никогда не купит, и даже не прочтёт. Она важна для вас самих. Она того стоит.
