Рецензия на роман «Башни Анисана»
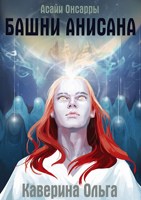
Книга хороша своей смелостью – она берётся рассказывать о неведомом. Это история не о людях, которых в романе нет вообще, а об асайях, живущих в совершенно ином мире и устроенных принципиально иначе. Мало кто из авторов на такое решается. Поэтому к книгам, которые целиком и полностью посвящены «чужим», я отношусь с большим интересом – они подкупают своей нестандартностью.
Идея принципиально другого мироустройства, на мой взгляд, является самой сильной составляющей книги. Мне было даже жаль, что автор сделал своих асайев антропоморфными, несмотря на иное устройство их тел и наличие дополнительных свойств, которыми люди не обладают. Но это, естественно, дело вкуса.
В «Башнях Анисана» читатель находит странный и красивый мир, состоящий из разных видов текучей и пластичной пыли, формирующей тела, растения и здания. Мир пронизан волнами – своеобразным аналогом Интернета, воспринимаемым асайями напрямую.
При этом мир асайев очень велик – и рукотворен от и до, включая звёзды и местный аналог планет – «твердыни» в виде колец. Из текста можно сделать вывод, что жизнь на разных твердынях отличается. Кроме того, даже в пределах одной планеты-твердыни существуют очень разные и обособленные сообщества: асайи, живущие на поверхности, в глубине и в воздухе.
И мироустройство, и сложная иерархия власти тщательно проработаны. Теоретическая часть мира асайев, в особенности та часть теории, которая охватывает глобальные процессы, продумана очень добросовестно.
Однако по мере приближения к практике проработка мира ухудшается, и начинает чувствоваться нехватка конкретных бытовых деталей.
В первую очередь это связано, как мне думается, с отсутствием описаний. В романе детально и подробно описывается только одежда – хотя остается неизвестным, как асайи производят и окрашивают ткань. Поскольку мир совершенно отличается от земного, наверное, было бы любопытно это показать.
В то же время детали, более интересные и значимые, чем одежда, намечены очень условно. К примеру, существует транспорт, называемый трансферами, причём он бывает двух типов – один соединяет города, второй ходит в пределах одного города. Наиболее подробное их описание таково:
И они заспешили к станции малых трансферов, которые связывали между собой все крупные обители города через разветвлённую сеть туннелей, проложенных неглубоко под поверхностью твердыни. Сами же трансферы представляли собой небольшие капсулы, рассчитанные на десяток асайев. Движением их через волны умело управляли вестники.
О том, как выглядят трансферы, сказано скупо: «Пустые блоки с тянущимися по сторонам гладкими белыми скамьями». Честно говоря, этого мало для того, чтобы создать у читателя визуальный образ – здесь мы видим скорее идею транспортного средства, чем реальный предмет. Капсула, видимо, полностью прозрачная. Но какой она формы, есть ли в ней освещение и двери, как выглядит вход на «станцию метро», мы не знаем. Соответственно, поездка на трансфере остаётся для нас отвлечённым понятием – мы не увидели её и не пережили.
То же самое можно сказать и о других деталях мира асайев. Прочитав книгу, я запомнила, например, что пасочные деревья создаются из особой пыли, что у них есть два вида плодов - соты и ягоды, и что пасока, пища асайев, бывает разных цветов. Но как выглядят сами деревья, насколько они высоки, какого цвета их кора и листва, не знаю. Есть идея дерева, но нет живого образа.
В результате остаётся ощущение, что об интереснейшем и необычном мире автор рассказал, но – не позволил читателю увидеть его своими глазами, и это, конечно, обидно.
Несмотря на большой объём книги, не складывается цельное представление о жизни асайев. Вернее, если основываться на том, что известно читателю, она выглядит какой-то пустой и однообразной. Асайи работают (автор, мне кажется, сознательно избегает этого слова, заменяя его на «трудятся»), едят, спят и зависают в местном аналоге Интернета, сообщающем им новости. Они регулярно участвуют в ритуале общего танца, но это не развлечение, а, условно говоря, сакральное действо. Развлечений, как мне показалось, у них немного:
Вместе они странствовали в округе Рутты, посещая сторонние малые торжества, ныряя в жужжащие волны, а также посещая всевозможные игры и соревнования, которые при закрытой арене проводились в крупнейших обителях. Прежде Гиб Аянфалю редко удавалось участвовать в таких развлечениях: аба Альтас относился к состязаниям равнодушно, и Гиб Аянфаль приучился следовать его примеру. В свободное время он по наставлению абы посещал Великую Картотеку Рутты, где изучал искусство архитекторов древности, глубокого и близкого прошлого и современности.
Кажется, у асайев практически нет искусства, за исключением архитектуры. Не упоминается ни литературы, ни музыки. Изобразительное искусство представлено скульптурой, но у меня сложилось впечатление, что она существует как часть архитектуры, а не сама по себе.
Скульптура размером в четыре его роста была создана из тёмно-серого камня, поднятого из недр твердыни, и изображала персону, с какой Гиб Аянфаль никогда не встречался ни в волнах, ни тем более в активной жизни. Стоящий прямо стройный асай был облачён в длинные закрытые одежды, какие носили ещё во времена Праматери, точно развевающиеся под дуновением ветра. Лицо его выражало решительность и непреклонность, и от того Гиб Аянфалю показалось, что перед ним изображена вполне конкретная личность, а не обычный собирательный портрет асайев одной рабочей точки, на чьих лицах всегда сияло спокойствие истинных детей Звезды.
Если в качестве примера взять жизнь главного героя, то она кажется довольно скучной: он работает, общается с родственниками, «погружается в волны», узнавая новости, ест и спит. Альтернатив немного: погулять или сходить на состязания и ритуальные танцы. Не могу сказать, намеренно ли автор показывает жизнь асайев такой однообразной, или это впечатление возникло помимо его желания из-за нехватки деталей – к концу первой книги сюжет не позволил это прояснить.
Признаюсь также, что мне не удалось разобраться в системе имён. У асайев родство является редким явлением, но в романе действуют три условные «семьи». При этом у двух «семей» нет общей «фамилии», которую бы носили все родственники. У третьей, напротив, есть только «фамилия» (родичи Чаэ), но нет имён. Используются уменьшительно-ласкательные имена, но если у главного героя Гиб Аянфаля таких имён сразу два, Янфо и Яфи, то у его сестры Гиеджи – ни одного. Резко выделяется среди прочих имён Багровый Ветер (подчеркну, что это имя, а не прозвище), при этом никак не объяснено, почему оно настолько отличается от остальных.
Хотя мир, созданный в книге, интересен, он сложно и непривычно устроен – и вначале всё внимание читателя направлено на то, чтобы в нём разобраться. Из-за этого в первых главах практически не обращаешь внимания на стилистику, здесь важнее понять содержание. Но по мере того, как осваиваешься в мире Анисана, начинаешь замечать: стиль повествования выбран неудачно и затрудняет чтение.
Авторская речь содержит избыточное количество «высоких», даже пафосных слов, и в то же время в ней много канцелярита:
Выйдя из замка Сэле после окончания труда, Гиб Аянфаль поначалу не знал, куда идти – его терзала тревога за Хибу и Бэли, потому просто отправиться домой к родичам он не мог. Он сел на траву в саду консульской обители и попытался погрузиться в волны настолько глубоко, насколько мог, чтобы найти хоть какое-нибудь нехорошее веяние, которое дало бы информацию для размышлений. Никогда прежде он не искал дурных новостей с такой настойчивостью. Но волны звучали спокойно, день оказался очередным этапом бытия, прошедшим в благодатном труде и отмеченным некоторыми выдающимися успехами.
Речь героев в основном однообразна и выдержана в том же стиле. Выделяются только консул Сэле, разговаривающий очень эмоционально, и Хиба, в речи которого используется сниженная лексика: «давай потолкуем», «бывай», «что там стряслось». Но если эмоциональность консула в общем и целом играет на странность и непредсказуемость его образа, то речевые характеристики Хибы менее удачны. Во-первых, просторечный стиль выдержан в его репликах не везде и то и дело сбивается на обычный для всех героев сдержанно-пафосный тон. Во-вторых, в мире асайев просторечию взяться просто неоткуда: все имеют доступ к образованию, живут в однородном обществе и за счёт постоянного подключения к волнам находятся внутри единой культуры, в том числе и речевой. Соответственно, использование такого приёма разрушает мир книги.
В повествовании совершенно не используются литературные тропы. Из-за этого текст, по сути, перестаёт быть художественным: он просто сообщает информацию, но не обращается к выразительным средствам. Мне удалось найти только одну метафору: «как будто сто лет сидели бок о бок на одном стебле». И эта метафора определённо очень хороша, потому что использует характерный образ – стебель, служащий не только строительным материалом, но и мебелью у асайев. Вполне вероятно, что я пропустила что-то ещё, однако в целом язык романа невыразителен и избегает художественных приёмов.
Не используется даже ритмизация: все сцены, и спокойные, и кульминационные, поданы в одном ритме. Это делает повествование менее живым и создаёт ощущение затянутости.
Одновременно с этим затянутость присутствует и на уровне происходящих событий. Описано много однообразных дней, построенных примерно по одной схеме: Гиб Аянфаль работал, с ним произошло значимое событие, он поговорил с родственниками и отправился спать. При этом описания возвращения домой, трапез, отхода ко сну не сокращены – и в силу своего однообразия в итоге занимают в романе неоправданно большое место.
На 29 глав книги приходится 8 сцен, в которых герой теряет сознание или неожиданно, против своей воли засыпает, а просыпается уже в незнакомом месте. Большинство из них завершает предыдущую главу (потеря сознания) и открывает новую (пробуждение). Такое большое количество выстроенных по одной схеме эпизодов кажется недостоверным и, на мой взгляд, ухудшает роман.
Конфликты книги тоже более-менее похожи. Здесь существует масштабное противостояние, условно говоря, правительства и оппозиции, однако информации о нём мы получаем немного и ещё не можем сделать собственных выводов. Оно обозначено, но пока не развивается. Остальные конфликты происходят между персонажами. Главный герой успевает побывать в противостоянии со всеми своими родственниками, с другом, с правительством и с оппозицией. При этом большая часть таких ситуаций строится на том, что одна из сторон не может или не хочет сообщать информацию, которой владеет. В результате сцены кажутся однообразными.
По-настоящему острых ситуаций в книге практически нет – или же они такими не воспринимаются из-за размеренного и монотонного стиля повествования. Даже сцены обрушения башни или мятежа не создают ощущения опасности для героя.
О характере главного героя говорить сложно: такое впечатление, что он плывёт по течению. Иногда Гиб Аянфаль совершает поступки, выходящие за рамки обычных – бежит к другу под ядовитым дождём или спускается в те области, в которых ему запрещено находиться. Но эти поступки кажутся скорее безрассудными, чем храбрыми. Герой, безусловно, проявляет смелость и сострадание, пытаясь освободить неизвестного ему асайя от напавшей на него пылевой тучи. Однако, опять же, из-за спокойного тона повествования, из-за того, что герою во время сражения с тучей не страшно, а после него – не больно, ценность поступка как бы нивелируется.
С другой стороны, неприятно то, что во многих ситуациях Гиб Аянфаль – по сути, «золотой мальчик» из высокопоставленной семьи – рассчитывает выйти сухим из воды благодаря заступничеству родственников.
Гиб Аянфаль стремительно вскочил на ноги. Это его шанс! Если он подбежит к Гиеджи, обхватит её так, что никто не сможет их разлучить, то его не посмеют отделить от семьи. Необычный статус Гиеджи не позволит им обращаться с ней с позиции силы.
Дочитав книгу, по-прежнему не понимаешь, к чему герой идёт. У него нет цели: на опрометчивые поступки его толкает желание узнать то, чего ему не говорят, а в сложные ситуации он попадает в качестве пассивного участника, втянутый в конфликт другими персонажами. Какой-то сверхзадачи в этом не прослеживается.
Что мне понравилось однозначно – это то, как в романе сквозь утопию постепенно, но несомненно проступает антиутопия. Общество асайев поначалу кажется идиллическим: все довольны своей жизнью, нет никаких излишеств, но нет и бедности, народ процветает под разумным управлением. Всё на удивление здорово.
Но чем дальше читаешь, тем явственнее видишь, что Голос, сопровождающий каждого асайя, не только советует, но и контролирует. А волны, от которых почти невозможно отключиться по собственному желанию, несут не только информацию, но и эмоции:
Яркое сияние озарило площадь, на мгновение ослепив тысячи тысяч глаз, а в следующее мгновение в волнах вспыхнула радость, которая проникла в умы и затронула каждого. В белом свете Гиб Аянфаль различил фигуру правителя с приветственно поднятой рукой.
Сияние постепенно сконцентрировалось вокруг Гэрера Гэнци и собралось в белый шар над его головой. Правитель опустил руку и начал неторопливо спускаться вниз к площади. На асайев нахлынула волна любви и восхищения им.
Асайи много говорят о приоритете свободы и недопустимости ограничений. Но происходящее опровергает их слова, и возникает подозрение, что описанное общество построено отнюдь не на свободе. Скорее это тотальный контроль, умолчание и обман.
Информация подаётся так, что позволяет читателю сделать эти выводы самостоятельно, и это, я считаю, большой плюс.
Однако в целом роман кажется затянутым. По сути, это очень большой пролог к дальнейшей истории: к финалу мы ещё не разобрались во всех заявленных конфликтах, а герой ни к чему не пришёл. Мне кажется, что книгу было бы интереснее читать, если бы она была более динамичной и использовала больше художественных приёмов.
__________________
Рецензия написана на платной основе, подробности тут: https://author.today/post/59197
