Рецензия на роман «О том чего уж больше нет. Роман-эссе»
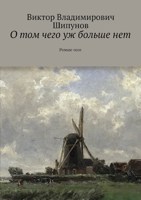
Рецензия написана в рамках марафона «Читатель-автор».
У меня был выбор из двух очень разных книг, которые в принципе меня заинтересовали первыми прочитанными страницами: реалистическое эссе Виктора и еще один роман, написанный в жанре темного фэнтези. Я их ненадолго отложила, и вскоре выяснилось, что начало книги Шипунова зашло мне больше и временами всплывает в памяти отдельными яркими картинками. Я тоже иногда занимаюсь этим безнадежным делом: пишу реалистическую прозу, без всякой фантастики. А надо же поддержать собрата! Так что я остановилась на мемуарном эссе «О том, чего уж больше нет».
И не пожалела!
Эссе представляет собой цикл исторических зарисовок, иногда с сюжетом, иногда без, написанных по рассказам деда автора Ильи Денисовича Осыченко. В первой части описана жизнь в казачьей станице Темнолесская Войска Донского в царское время, потом Первая мировая война, революция и короткий период после революции.
Мои предки по материнской линии происходили из подмосковных крестьян. Казалось бы, совсем другой регион. Но сколько же общего! Вплоть до значений устаревших слов, которые я слышала от моего деда, и поняла, только прочитав книгу Виктора. Я и не знала, что «беленькая» - это очищенная водка, которую делали с белой крышкой, а «красненькая» - не очищенная водка. Я слышала от деда оба слова, но долго думала, что «красненькая» - это бутылка красного вина.
И четыре класса церковно-приходской школы среди крестьян Подмосковья считались крутым образованием, как в станице Темнолесской. У моего деда и были четыре класса, а у бабушки только два, видимо, для девицы и то считалось много, хотя она была из богатой по деревенским меркам семьи.
И отношение к царскому времени, как к утерянному раю было таким же, хотя казаки считались привилегированным сословием, а крестьяне - совсем нет.
И уважение к георгиевским кавалерам. Мой прадед был полным георгиевским кавалером: у него было четыре креста, и в деревне его действительно уважали.
Оказывается, георгиевского кавалера можно было арестовать только с разрешения царя. Я даже не знала об этом.
Хотя любили моего прадеда не только за это. Был он рубаха-парнем, со всеми делился и ставил выпивку бесплатно, поэтому, когда стали раскулачивать, односельчане на него не донесли, хотя до революции у него было две избы и обувная мастерская с работниками. Делали там модельную женскую обувь по французским лекалам и возили московским купцам продавать. Моя мама вспоминала, как ее бабушка (моя прабабушка) доставала из сундука и показывала ей эти сапожки: изящные, со шнуровочкой, с маленьким каблучком. Никогда моя мама не видела такой красоты.
Главного героя романа Шипунова тоже не выдали станичники, хотя он служил унтер-офицером в царской армии, а потом у Деникина. И потому же: хороший человек.
В общем, параллелей с историей моей семьи в книге Виктора нашлось множество, что было для меня еще одним доказательством ее абсолютной подлинности.
Прадед автора перед революцией копил деньги и обменивал их на золотые монеты, потому что «снились дурные сны». Мой прадед перед революцией продал мастерскую, словно тоже что-то почувствовал, хотя ни о какой мистике мне мама не рассказывала, объясняла тем, что ее дед был просто очень умным человеком.
В романе Виктора такой народной мистики много: и колдуны присутствуют, и знахари, и вера в сглаз, и колдуньи. Она и в двадцатом веке еще сохранялась эта вера в деревнях.
Первая часть книги скорее бытовая: о детских играх, о шалостях, о сенокосе, об охоте, о торговле и деревенских ремеслах, но даже она читается с интересом из-за легкого ясного языка и необычности для нас той старинной жизни. Особенно приятно, что автор, используя много устаревших слов и диалектизмов, не перегружает ими текст, и это ничуть не затрудняет чтение.
Замечательны истории о том, как станичники легко объединялись, что для строительства нового дома, что нового моста через реку. Куда-то это все ушло, с соборностью сейчас ох, как туго!
Мне очень понравился рассказ об атамане, который был в станице и административной властью, и военной, и судебной. И качество его суда было таково, что современным бы российским судьям поучиться, хотя судил он не по закону, а по справедливости и «по понятиям».
Книга и о том, как развивалась Россия перед Первой Мировой, как богатели люди, как вставали на ноги, как начинали прилично зарабатывать. И это везде. Если почитать, например, дневники Михаила Кузмина, впечатление то же, хотя совершенно другие и место, и среда. Я читала и вспоминала известное высказывание Черчилля о России: «Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже видна».
Но начинается война и историческое бытописание сменяют главы о военных приключениях, а потом о трагедии и безумии революции и гражданской войны.
Нет, февральской революции казаки даже обрадовались, им очень понравилось, что к власти пришли эсеры, которые обещали освободить от налогов мелкие хозяйства. Зато потом!
И снова параллели. Отношение к большевикам в деревне моего прадеда и в станице деда Виктора Шипунова мало чем отличалось. Мама читала мне по памяти частушку, которую ей тихонько пропела ее бабушка:
Пока не было Совета,
Не видала жопа света,
А, когда пришел Совет,
Увидала жопа свет.
В романе Виктора тоже есть частушка. Другая. Но она дорого обошлась станичникам. Но не буду больше спойлить.
За героями романа сначала с интересом следишь, потом сочувствуешь. К концу книги им приходится выживать, выкручиваясь, обманывая, воруя и подделывая документы, просто, чтобы не погибнуть, не умереть с голода и не дать умереть детям. Но осудить их язык не поворачивается, несмотря на неоднозначные поступки. Очень хорошо понимаешь, что при нормальной жизни, никто из них не пошел бы ни на воровство, ни на предательство.
А они мечтают о возвращении этой нормальной жизни, даже уходят в лес, к Зеленым, чтобы ждать там возвращения старых времен.
И снова параллель. Мама вспоминала, как моя прабабушка до смерти хранила хомут от лошади, которую забрали в колхоз, все надеялась, что вернут лошадок. А умерла она в середине семидесятых, в возрасте 91 года.
Только в Подмосковье в Зеленые не уходили, это было более южное явление.
Автора же можно упрекнуть разве что за:
- Иногда слишком короткие главы. Например, главу «Волки» можно легко объединить со следующей.
- Слова «не отсюда». Например, очень режет глаз слово «лактация». Понятно, что рассказчик современный и вполне может знать это слово, но все равно оно выбивается из контекста. Но явление это для текста, слава Богу, весьма редкое.
А больше и наехать не на что.
Очень рекомендую всем, кто интересуется материальной, народной историей начала двадцатого века или историей своей семьи. Наверняка тоже найдутся параллели.
