Рецензия на роман «Играя с Судьбой том 1»
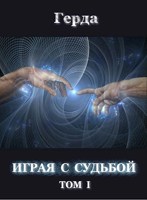
Автору и симпатизирующим читать не рекомендуется.
«Ой-ё, шире вселенной горе мое»
И широкое это горе принадлежит трем главным героям-рассказчикам романа «Играя с судьбой». К сожалению, им принадлежит только горе, страдание, душевные метания — и у каждого его внутренние переживания возведены в культ. Да у каждого. Героев трое и они могли бы быть различными, но, увы, по сути и в основе все одинаковые, потому что их привязка к собственным ощущениям, суждениям и сомнениям выдавлена на каждом тяжелым штапмом.
Возьмем, к примеру, первого рассказчика — Рокше.
Юноша, курсант. Его душевные копания и мельчайшие отношенческие реакции на все, что происходит вокруг, больше напоминают метания души трепетной барышни. Я допускаю, что бывают и такие трепетные юноши — почему нет? Но с ним вот какая незадача: про Рокше сказано, что он — лучший на курсе, что так считают и сам Рокше, и другие персонажи. При этом не показано картинки – вот бы читатель смог увидеть юношу в кресле пилота, собственно, в деле, чтобы самому решить, хороший он пилот или нет. Но нет в кадре того, с чего что-то можно решить самому. Сказано «лучший» — и этого как бы достаточно. Хотя, помимо "лучшего" дана еще некоторая абстракция:
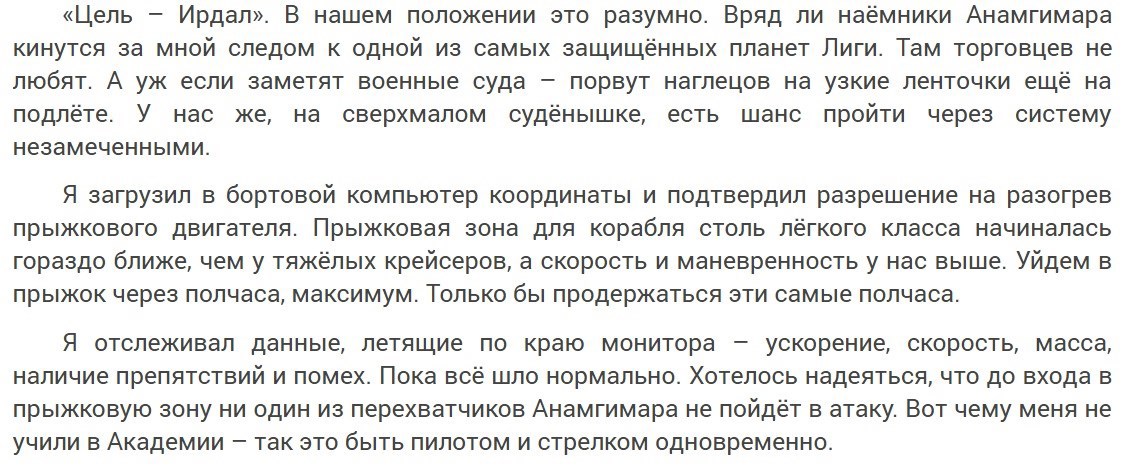
Нет. Этого недостаточно. Излишне обобщенное описание «Я отслеживал данные» подходит подо все, включая варку макарон. Имеющиеся «вряд ли» и «разумно» — всего лишь оценочное суждение о ситуации и вероятность, но не информативность. Если «лучший пилот на курсе» умеет загружать координаты в бортовой компьютер, отслеживать данные, а потом, в полете, и вовсе впадать в беспамятство (об этом ниже), то у меня вопрос — каков уровень простых пилотов? Они что, не умеют даже координаты загружать?
Боевка перед кораблем, на котором удирают Рокше, Фориэ и Арвид… Не знаю опять же. Боевка ли это вообще? Уход в себя и рассказ о себе, выпавшем из реальности, — да. Действие, динамика и картинка внешнего мира, взаимодействие объектов — нет. 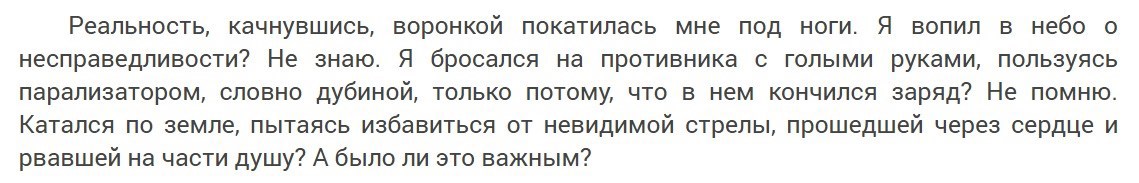
Было. Это было важным. Но не показали. Герой-рассказчик окуклился, «отключив» внешний мир, впал в беспамятную истерику.
И, повторюсь, при всем этом предлагается поверить, что Рокше — лучший, исключительный и вообще крутой паренек. Просто на слово поверить (кстати, в романе вообще много заявлений подкреплено не фактами, а просьбами персонажей «Поверь мне!»).
Собственно сама дальнейшая сюжетная движуха — удирание от перехватчиков в космосе, спасительный нырок в подпространство — в кадре отсутствует. Зачем показывать погоню, если можно показать в подробностях, что герой чувствует после того, как после погони потерял сознание и после того, как пришел в себя. Когда кто-то за кем-то гонится на космических кораблях — это совершенно не нужные вещи в фантастическом романе, верно?
Зато отношений к окружению — с лихвой! Трепет, страх, облегчение. Все попеременно и подробно:
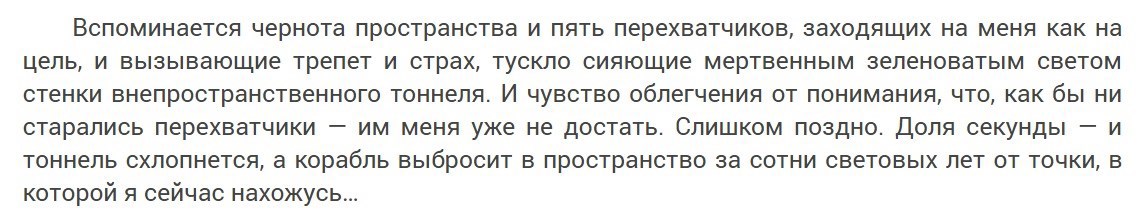
Итог. Когда у героя дело доходит до дела — исчезает самое главное: конкретика окружающего мира и взаимодействие героя с миром. Мира нет. Есть потоки сознания сомнений и переживаний по поводам, далеко не всегда связанным с миром.
Я привела в пример Рокше, но и с Фориэ, и с Арвидом все то же самое.
Чувства или разум? Автор говорит, что разум, но показывает в подробностях, что чувства. Фориэ заявлена как аналитик и Стратег, при этом все ее действия основываются на порывах души, которые она ни объяснить, ни контролировать не в силах. И где тогда разум?
Действие или бессилие? Автор говорит, что герой резкий, но показывает, что герой частенько застывает шокированный, потом что-то заставляет его очнуться — и впасть в очередную прострацию или самогрызню. Но резкость-то где?
Что все это? Ложь? Подмена понятий? Не знаю, но доверия такой ход не вызывает.
Хотя кое-что различает героев — автор все-таки наделил их каждого своей чертой, правда, тоже очень отношенческой. Фориэ с осуждением и даже высокомерием смотрит на других женщин (дешевки, глупышки, но я не такая). Арвид периодически пьет из-за чувства вины и тревоги, которые сам в себе раскачивает (что у нас сегодня по календарю?.. вот, стыд! опять нет повода не выпить). Рокше боязлив и нерешителен — до трусости.
Общий же знаменатель для всех один — чрезмерное трепетное отношение к малейшим колебаниям своей души. В поле внимания персонажей более ничего не попадает.
Еще у всех троих героев по ходу сюжета возникает куча вопросов, но они, столкнувшись с чем-то неизвестным, предпочитают эти вопросы внутренне для себя обозначить, а потом припрятать, чтобы или остаться в неведении (нет, не хочу даже думать об этом), или тихо потом поразмыслить одному (сам найду правильный ответ, я же самый умный, существуют только мои суждения, ничьи более). Почему не спросить прямо тогда, когда перед тобой тот, кто может ответить? Зачем откладывать? Почему если персонаж не вывалил на героя всю информацию самостоятельно, то герой сидит как с заклеенным ртом и задать вопроса не в состоянии?
Еще у всех трех героев одинаковые требования к окружающим и одинаковая рассортировка людей. Хороший — тот, кто извиняется перед героем постоянно, кто заглядывает в лицо и спрашивает «Что-то случилось?», кто благодарит героя ежеминутно, кто кормит, ухаживает, кто сам делится информацией, кто опекает и комфортит. Плохой — тот, кто не врубается, что надо извиняться каждый пять минут, кто невнимателен к натянутым улыбкам и к бледности, кто не ласкает, не одаривает, кто на официальном мероприятии держит под руку своего спутника, потому что «вцепились и висят, но я не такая», кто ведет разговор так, что не дает информацию потоком, а герой оказывается в положении, когда для получения новых знаний надо задавать вопросы (которые, право, так утомительны). Короче, кто героев любит и заботится о них, тот и хороший. Иные — негодяи и сомнительные типы.
Персонажей много, но отдельно хочется сказать только о том, кто выделяется из шеренг тоскующих и тревожащихся душ — это Да-Деган. Во-первых, он — единственный, кто оправдывает название романа. Во-вторых, он вообще деятельный, смелый и сильный персонаж, который живет через действие, а не через путаное выяснение множественных отношений и игры в бесконечные «верю/не верю». Ему надо — он встанет и бросит вызов хоть всей вселенной. По силе духа и воли этот полутруп, находящийся на грани смерти, превосходит любого главного героя.
Если говорить о жанре романа, то, поскольку акцент делается на внутренних переживаниях героев, на их состояниях и изменении состояний, «Играя с судьбой» — это сентиментальная фантастика.
Нет, не так.
СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ фантастика. От фантастики в романе почти ничего не осталось, задвинутое сентиментальностью. Внешний мир и сюжет задавлен настолько, что все можно перенести из космоса не только в фэнтези, но и в современные реалии. В центре останутся три героя:
1) женщина, раздувшая свои этические требования к миру и сделавшая из выяснений рядовых семейных отношений политический конфликт, чем показавшая, что ее умение капать на мозги нескольким людям влияет на судьбу народа.
2) мужчина+стыд+самокопания=алкоголизм.
3) трепетный подросток (якобы в чем-то лучший), выходящий в большой мир, но по факту он один раз посидел за рулем машины, потом вовсе ушел на задний план, растворился.
Ощущения от романа тяжелые — и это не просто так.
Текст содержит огромное количество слов с отрицательным зарядом. Чувства и ощущения его рассказчиков наполнены негативом до краев и за краями — позитивным словам и положительным чувствам просто нет места. А есть тревога, усталость, бессилие, вина, стыд, снова стыд, ненависть, снова усталость, опять бессилие, страх, сомнения, накручивание себя, тяжесть, ощущение разваливания, сползание в обмороки, расфокусировка внимания, суета мыслей, снова стыд, отчаяние…
Что еще?..
Тоска, презрение, неверие (оно же — сомнение), подозрение, злость, стыд (многовато стыда? не-е, в тексте его еще больше). Желание плакать и наворачивающиеся слезы, возмущения, негодования, стыд (да-да, чтобы не забывали), тяжесть, бессилие, оцепенение, невозможность действовать из-за накатившего бессилия, сползание в очередной обморок.
Мало?
Обвинения других и чувство собственной вины, вспышки самомнения, недоверие, опасения, истерика, слезы, стыд, упреки, сползание в обморок после шепота «Со мной все в порядке», страдание, которое состряпал себе, пока завтракал и погружался в воспоминания, нахлынувшие вдруг и почему-то тоска и тревога. Стыд (соскучились?), осуждение, самобичевание, апатия и тут же сковывающий страх чужого мнения, потом сковывающая неловкость. Болезненное восприятие всего вокруг, даже ветерка, беспомощность и бессилие, попытки растянуть губы в фальшивых улыбках, обморок, упрек, недоверие, острое желание спрятаться от любых проявлений действительности, неповоротливые мысли, стыд (ДА!) и чувство вины, кошмар, душевная боль, вымученность, истерика, тоска и тревога…
Кажется, я только что рассказала весь роман. Даже сюжет.
«Исправляется» такой текст, перегруженный ощущениями, чувствами и многочисленными колебаниями отношений несложно. Достаточно ряд отношений к фактам заменить на сами факты — и мир оживет, а удушающее мнение рассказчиков-наблюдателей ослабит свою хватку.
Можно:
1) не давать субъективной оценки прежде описания объекта. Т.е. не «Он был симпатичен, этот мужчина, а также высок, строен и подтянут», а сначала описание «высок, строен и подтянут», и уже потом оценка «симпатичен».
2) немного «выйти» из голов рассказчиков, дать внешнюю картину. Например, не «Я смотрела на суету и суматоху, поднявшуюся в зале…», а «В зале поднялась суматоха».
3) внести разнообразие в жесты, мимику и действия. Пока что действия героев во время диалогов бедны — все внимательно заглядывают друг другу в лицо (и сам такой взгляд должен мно-о-огое объяснить), а мимики нет.
Отдельно хотелось бы сказать о такой стилистической штуке, как слова-паразиты. Их много, они замусоривают текст. «Просто», «на самом деле», «как будто», «достаточно», «почти» — это все лишнее. Они работают, но их работу с читателем не назовешь продуктивной. Слово «просто» обычно употребляется, когда все кажется сложным. «Как будто» говорит о сомнении и попытке снять с себя ответственность. «На самом деле» отражает беспокойство и недоверие к своим же словам. «Достаточно» показывает неприятие конкретики, любовь к неопределенности и нелюбовь к определенности. "Почти" - это недо- или нет. Почти успел - это не успел.
Описания страдают от размытости и обилия неопределенных или указательных местоимений. Например, «какая-то странная неправильность» — это что?
Огромное количество оборванных фраз. Все персонажи наделены манерой недоговаривания. Многоточия заполонили… /тут мог бы быть ваш вариант, что именно они заполонили/ и создают затянутые паузы даже в простых репликах:
«— Привет…»,
«— Слушаю…»,
«— Да, конечно…» и т.д.
Иногда многоточия стоят перед словом, определяющим отношение героя:
«это было… неприятно»,
«выглядело это… странно»,
что показывает своеобразный ступор в определении этого отношения. Это все ослабляет текст, добавляя утомленности и заторможенности туда, куда ее еще не плеснули герои детальным описанием своих утомленных и подвешенных состояний.
Для кого этот роман? Сложно сказать. Возможно, удастся ответить на этот вопрос «от противного».
Если вы любите динамику — вам не сюда. Если вы хотите читать фантастику про космос — вам не сюда. Если вы хотите видеть в кадре героев, склонных больше действовать, чем перебирать собственные чувства — вам не сюда.
Сюда за чем-то другим.