Рецензия на роман «Хранительница: в мире нерассказанных историй»
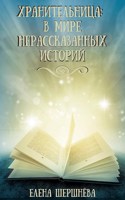
Книга производит двоякое впечатление. Мне однозначно понравилась идея, но её воплощение – уже намного меньше.
«Хранительница» отвечает на очень непростой вопрос: должна ли книга воспитывать читателя, следует ли герою быть положительным, обязательна ли победа добра над злом. Да, это именно один вопрос, просто рассматриваемый с разных сторон. Можно его переформулировать: даёт ли книга читателю эталон, которому тот может следовать? Автор уверен, что дело обстоит именно так, и я разделяю эту точку зрения.
…Понимаешь, я в детстве столько сказок прочитала! И все они заканчивались хорошо. И их героям тоже было несладко. И если бы герои тех сказок повернули назад, то и сказок бы не было! Ничего бы не было! И все люди выросли бы другими. Они бы тоже думали, что когда становится плохо, трудно, надо сдаваться и уходить. Но это неправда!..
Злодей в этой истории пишет книгу с плохим концом, в которой награду получит тот, кто сумел захватить власть. И мне кажется, героиня эмоционально, но точно объясняет, чем опасны такие книги и почему они не просто развлечение для уставшего на работе читателя, а нечто более серьёзное. Модель мира, принцип развития событий, образец поведения, приводящего к выигрышу.
Ему надо, что все истории, ваши истории, другие, подобные этой, оказались неправдой! Чтобы всё вывернулось наизнанку! Чтобы такие, как Ренна, торжествовали победу! Чтобы вся ваша верность, преданность, смелость ничего не значили! (…) И если он этого добьётся, в моём мире тоже станет совсем плохо! В нём не останется главного – веры в то, что добро победит, что всё станет на свои места! Что всё всегда решается смелостью, верностью и любовью. Он отберёт самое главное – надежду!
Но если с посылом книги я полностью согласна, то его техническое воплощение периодически заставляет спотыкаться.
Во-первых, история затянута. А если она кажется затянутой даже мне, любительнице неспешного действия, то это тревожный сигнал. Пятая часть книги отведена под экспозицию: пятнадцатилетняя девочка из детдома попадает в волшебную Библиотеку. Ничего другого в этой части не происходит. Героиня вспоминает о своей жизни, сталкивается с проблемами в детдоме и убирается в библиотеке. Это нормальный и вполне интересный старт истории, но выделять ему двадцать процентов текста – уже перебор.
Во-вторых, сюжет строится на штампах. Одинокий герой-подросток, невидимая прохожим дверь в стене, волшебная Библиотека. Злодеи, желающие захватить власть над миром без внятной мотивации, просто чтобы было. Мудрые и прекрасные, но не всесильные волшебники. Долгое опасное путешествие, приводящее к сокровищу. Совершенно классические ходы, и, в принципе, в них нет ничего плохого, но в таком объёме они слишком бросаются в глаза.
Герои вызывают смешанные чувства. Часть из них получилась замечательно – к примеру, просто идеален Дракон, обернувшийся человеком. Он описывается как «каменно-спокойный» – «ни одной эмоции не было написано на его чеканном, жёстком лице», и это впечатляет. У него есть характер, мотивация, сложное отношение к другим персонажам, к тому же Дракон очень харизматичен.
А вот Ренна, главная злодейка, неубедительна. Она разговаривает исключительно восклицательными предложениями, много эмоционирует и в целом производит впечатление неуравновешенной особы – не верится, чтобы такая нервная дамочка была сильной колдуньей, построивший сложную многоходовку по захвату мира.
-Видишь, тебе нравится эта мысль! Я чувствую. Ты уходишь, а у нас тут пусть всё идёт своим чередом! Не знаю, с чего ты решила, что эта девчонка – героиня истории! На мой взгляд, ты ошиблась! Настоящей её героиней буду я! Поверь, я знаю, что говорю! Мне не хватает малости, но скоро я это исправлю! Подумай, зачем тебе рисковать собой? Ради чего? Она тебе чужая, у тебя своя жизнь! Ты собираешься бороться? Вряд ли! Это не тебя не похоже. Возвращайся к своим книжкам, девочка, и всё будет хорошо!
Но сложнее всего с главной героиней, Катей, от лица которой написан роман. У неё яркий, цельный характер, привлекающий силой и стойкостью. И этот характер постоянно конфликтует с кусками текста, давящими на жалость.
Мне не хватает знания терминологии, чтобы пояснить этот момент, но попробую справиться так. Для меня вся история разделилась на два слоя, на две части. В первой Катя говорит и действует, сюда входят её прямая речь и поступки. Во второй ведётся повествование – от лица Кати, но почему-то настроение у этого повествования совсем другое.
В первой части Катя никогда не жалеет себя и все трудности переносит, стиснув зубы и не жалуясь. Даже о том, что она осталась хромой после сложного перелома, мы узнаём только тогда, когда это оправдано сюжетом – больная нога затрудняет движения, и девушке приходится с этим как-то справляться.
Во второй части постоянно перебираются тяжёлые воспоминания и старые обиды. Их много, они даются в подробностях, ненужных для сюжета, иногда повторяются. Очень скоро эта пожалейка, призванная вызвать сочувствие к героине, начинает раздражать.
Что интересно, раздражение не переносится на саму Катю. Возникает чёткое разграничение. Не в её характере давить на жалость и постоянно ныть. Та Катя, которую показывают её речь и поступки, не стала бы детально и многословно рассказывать о своих несчастьях, отводя им приличный кусок каждой главы. Она могла бы упомянуть о них мельком, придись это к слову, но скупо и без эмоций, заранее отказываясь от сочувствия. В итоге повествование от первого лица совершенно перестаёт увязываться с образом героини – из него слишком явно торчат уши автора, целенаправленно вызывающего жалость, которой Катя не хочет.
После их ухода стало ещё хуже, потому что родители разозлились на меня. К тому же, папе пришлось устроиться на работу, и он приходил злой и постоянно орал на всех. Не знаю, на что мы до этого жили, но особой разницы я не заметила: в доме по-прежнему иногда были хлеб, холодные серые макароны или каша и совсем редко дешёвые сосиски, которые я грызла прямо замороженными.
Мне кажется, что и размышления Кати, и её сомнения несколько затянуты, но, возможно, это дело вкуса. Однако динамика из-за всех этих воспоминаний, рефлексий и избыточных действий явно проседает.
Описания мира иногда радуют, а иногда – совсем нет. В некоторых моментах попадаются замечательные картинки:
Я крутила головой в разные стороны, подмечая каждый раз новые детали. Пушистые комочки, напоминающие одуванчики, но не белые, а ярко-жёлтые и крупнее, чем наши; высокие метёлки травы, с которых при малейшем движении сыпались вниз капельки воды, вспыхивая и сверкая на солнце; крупные розовые и фиолетовые цветы, похожие на маки, которые при ближайшем рассмотрении распались на лепестки и оказались... бабочками! Над лугом что-то жужжало, и слышались чистые переливчатые птичьи трели.
Но эти описания даются бессистемно. В других местах, где картинка не помешала бы, приходится обойтись без неё, читателю предлагают абстрактную тюремную камеру или абстрактную таверну. Ещё печальнее становится, когда попадается описание, ничего конкретного не описывающее:
На улице стемнело, но по всему городу горели факелы, поэтому я смогла осмотреться.
Тагат был больше, чем я ожидала. В моём представлении последнее прибежище дунгарцев было совсем другим – поменьше и погрязнее. Но в городе было чисто, улицы пусты, вокруг – тишина. Какой-то невнятный гул доносился из-за стен – видимо, то были звуки армии Итериара.
Периодически начинает хромать логика. Навскидку из таких моментов: Теофилус при первой встрече с Катей говорит, что только что вернулся из поездки, а затем выясняется, что он практически не покидает Библиотеку. Собака, хозяйку которой увезли стражники, отправляется не за ней, а за Катей, которую знает всего несколько дней. Та же собака, оставленная за несколько недель пешего пути от Библиотеки, вдруг появляется около неё. Героиня то хорошо разбирается в картах, то не разбирается вовсе. Спасаясь от стражников, героини не используют магию, позволяющую им моментально оказаться в безопасном месте – это мотивировано тем, что одна из них ещё не приняла решения, но по факту ситуация такова, что до принятия решения девушки могут и не дожить, и риск не выглядит оправданным. Самки драконов откладывают за всю жизнь только одно яйцо – это делает совершенно непонятным то, что они ухитрились как-то произойти от первого дракона и размножиться. При таком методе продолжения рода поголовье драконов должно каждое поколение сокращаться вдвое.
Язык книги в целом грамотный, но в нём много канцелярита, пафоса, нередко попадаются неверно согласованные или неправильно употребляемые обороты: «её первой претензией ко мне были волосы, выкрашенные в разные цвета, и татуировки», «нужно было бесконечно следить за тем, чтобы кровать была натянута», «количество странностей уже зашкалило за все мыслимые пределы», «с вытаращенными глазами и покосившимся от ярости ртом».
Изрядно раздражают куски прямой речи, выстроенные только из восклицательных и вопросительных предложений. Иногда это соответствует характеру персонажа – например, для пятнадцатилетней Кати выражаться так в минуты волнения вполне естественно. Но часто не соответствует, и тогда эти монологи выглядят неоправданными.
И, нужно признаться, отсутствие промежуточного финала в конце книги вызвало разочарование. История рассчитана на продолжение, но она была долгой и объёмной. Поэтому к концу романа подсознательно ожидаешь хоть какой-то локальной победы добра или ответа на часть вопросов. Когда этого не происходит, чувствуешь себя обманутым. С одной стороны, это несомненный показатель того, что книга зацепила. С другой, разочарование как финальная эмоция – не есть хорошо.
__________________
Рецензия написана на платной основе, подробности тут: https://author.today/post/59197
