Рецензия на роман «Хранитель севера. Найти Левисиз»
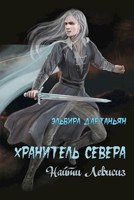
Вам приходилось читать историю, герой которой – ветер? Да-да, самый настоящий ветер, иначе – орт, только не путайте с эверками, они тоже ребята-ветры, но южные. Но юный герой этой истории – ветер особенный, отчасти он вполне человек. Как и его собратья. И хотя он без всяких усилий меняет форму – от твёрдой-людской до воздушной, а может и твёрдую поменять, сделавшись, например, копией зелёного носатого клиса или даже алая (попросту пса по-нашему) – всё-таки во многом он обычный мальчишка. Любопытный, бесшабашный, отчаянный. Иногда самолюбивый не в меру, иногда храбрее многих постарше его… в основном от неопытности, как мальчишкам и присуще. Зато поэтому-то ему иной раз и удаются такое фортели, что только чудом и назовёшь. Ну так ему ведь не объяснили заранее, что эту штуку проделать невозможно!
И как у каждого обычного человека, у героя – юного ветерка по имени Грант Ив – были отец и мать, да только давным-давно пропали. А сам он живёт в специальном месте, где такие же сыновья северных ветров набираются опыта и ждут момента, когда детство закончится… и их уже выпустят полетать! От души насладиться миром Ге-Итео с его лесами, полями, горами, пустынями и океанами, но главное – с населяющими его людьми. Люди - они ведь такие интересные! В чем-то на ортов похожи, а в чём-то – вовсе нет. Как же не стремиться понять их!
Тем более, задача ортов – и их южных «братишек» эверков – быть для людей хранителями и поддерживать Равновесие. Надо же им понимать, кого и от чего хранить, верно?
Итак, история начинается с того, что юный Грант Ив ждёт долгожданной свободы, предвкушая полёт по миру, но вместо этого получает странные и пугающие новости. Никакой свободы ему нельзя: он ведь проклят. Ещё младенцем. И причина - в его родителях. Которые не просто пропали, а сгинули вовсе. По вине страшного и ужасного типа, чудовища по имени Кордо, который когда-то был человеком, но впитал силу зла – он-то и погубил родителей юноши. И с Грант Ивом случится то же самое, если он не найдёт некую мудрую тави – то есть, ведунью – знающую путь к спасению.
От такого вороха открытий наш герой слегка теряется, но – только слегка. В проклятиях он ничего не понимает, бояться не приучен – ещё бы, кто способен напугать ветер? Но из уважения к мудрому учителю он всё-таки слушается… почти. И отправляется искать ведунью – которая кое-что проясняет, а кое-что, наоборот, становится более запутанным. Тави по имени Фрида, в далёком прошлом нянюшка маленького ветерка, отправляет его в новый поиск: теперь ему необходимо найти что-то – или кого-то – именуемого Левисиз. И это «нечто» способно, при везении, проклятие снять.
А везения потребуется много, потому что юный орт уже успел влипнуть в историю, и теперь за ним охотится не только таинственный злодей Кордо, который летает над миром на страшном огнедышащем зминоге, – у Грант Ива появляются и другие беды. А ещё необычные спутники – и не всегда он им рад.
И тут-то всё заверте…
Хотя, как весьма скоро выясняется, завертелось-то всё очень давно – когда наш герой ещё не родился. Он расхлёбывает хлопотное «наследство» родителей – и на этом пути ему предстоит сделать кое-какие открытия, которые его не порадуют.
А читателя – наоборот. Ведь сюжет тут летит воистину со скоростью ветра, изобилует сюрпризами и внезапными поворотами, а в финале способен нешуточно удивить. А может, даже и не раз.
Ну вот – с кратким содержанием покончено. И как любое краткое содержание истории с чудесами и приключениями, оно похоже на другие и не очень информативно. Юный герой в опасности, странствует и приключается, а по пути с ним происходят чудеса. Знакомо, не правда ли?
На самом деле – нет.
Классическая структура сюжета соседствует тут с ворохом совершенно новых явлений и существ, которых вы прежде не встречали – хотя иные напоминают нечто знакомое. Зминога вы уж точно узнаете – а вот эверки, орты или забавные клисы пришли прямиком из воображения автора. Особенно удачной находкой кажутся тави. Не совсем ведьмы, не совсем феи, да и вообще не сказать что волшебницы – но в них есть что-то от всех перечисленных. Но при этом тави – оригинальное изобретение автора. Пожалуй, именно девушки-тави и их история (даже в исполнении неунывающего легкомысленного Грант Ива) – первый намёк на то, что эта милая и написанная в юмористическом ключе сказка по сути не так уж весела. И уж точно – не проста.
Хотя если вы дадите эту книгу ребёнку – думаю, он будет в восторге. Здесь идёт речь о вещах очень понятных и знакомых всем с раннего детства: интерес к миру, стремление к новому и непознанному, к новым местам и лицам; смутное желание понять самого себя, нащупать границы своей внутренней силы и свободы, определить, где заканчиваются «старшие» и начинаешься ты. В чём разница между отвагой и бесшабашностью, осторожностью и страхом. Разница между опекой и узами, «хвостами» и друзьями.
Такие вещи вовсе не обязательно обозначать явно – тем более, в сказке. И когда ты ребёнок, то всего этого не понимаешь – но думаю, подсознательно чувствуешь. Именно поэтому из каких-то книг вырастаешь, а другие перерастают тебя. Возьмите, например, Муми-троллей. Для детей? То-то и оно.
Но это было лирическое отступление, и возможно, ему бы следовало оказаться не здесь, а в конце. Ну ладно, так уж получилось. Тем более, тема Сказки всплыла сразу, едва я начал читать, – а это одна из моих любимых тем, и я к ней постоянно буду возвращаться.
Итак, Муми-тролли… ой, нет. Но здесь имеется очевидное сходство. И не одно. Судите сами. Мир, в котором, в общем-то, жизнь скорее добра, чем наоборот, уж точно куда добрее нашей – да. Необычные и симпатичные в целом обитатели, которых в иных мирах, сиречь книгах, вы не встретите – в наличии. Кажущаяся простота и часто милота сюжета – загляните и оцените сами, вам понравится. Конечно, если вы не те бедняги, кто безнадёжно вырос из сказок. Или не дорос. Как посмотреть.
Но пойду-ка я по порядку. Я ведь стремлюсь рассказать, чем книга необычна и чем привлекательна. А если вам надо о недостатках, то так и быть: я заметил незаконные запятушки, аж штук пять. Но сей кошмар мне удалось легко переварить. Так что и за вас мне спокойно, дорогие читатели. А ещё это лишь первая часть, и в конце вы остаётесь с ворохом загадок – да, финал открыт, продолжение следует. Хотя кое-что разрешилось – например, история с Кордо… нет, стоп, это уже адский спойлер.
Имена. Это особая вишенка на тортике – имена очень важны, хотя разумеется, благозвучность всяк оценивает по-своему. А ведь есть и такая штука, как аналогии – явные и не очень. И здесь мне особенно хочется поиграть с аналогиями, рассмотрев имя главного героя.
Грант Ив. Грант… Полагаю, для русского читателя «со стажем», то есть для человека практически любого возраста, начиная лет с двенадцати, живущего в мире книг, это имя сразу напомнит о парусах, скрипе снастей, блеске в глазах чудака Паганеля и рокоте волн океана: дети капитана Гранта. Классическая история о странствиях, поиске, тайнах, опасностях и отваге. И дружбе, разумеется. Ну и… вы ведь помните: «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!».
Надеюсь, помните. Даже если вам не так давно, как мне, было двенадцать.
Грант – это ветер странствий. Ветер отваги на грани безрассудства. Поиска почти вслепую, надежды авантюристов. И хотя у храброй компании, что ищет пропавшего капитана Гранта, цель благородная и весомая – но все они ещё и очень любят постигать мир. Им безумно интересно всё новое, неизведанное. По сути, хоть в той команде есть немало авторитетов в своих областях, но негласным «флагом» команды – выразителем духа их путешествия – является рассеянный, далёкий от практичного знания жизни Паганель.
И всё это в точности соответствует приключению нашего героя, юного северного ветра, орта по имени Грант Ив. Случайно? Намеренно? А вы знаете, оба варианта мне нравятся. Я специально не стал спрашивать у автора заранее, хотя узнать было бы интересно.
А ещё ведь есть весьма известный, хотя и менее близкий русскому читателю, «Ветер в ивах». И тут тоже резонанс – слышнее некуда.
Но если даже автор вовсе об этой книге не слыхал – всё равно аналогия неслучайна. Ива – то дерево, которому особенно «к лицу» ветер. Её листья он окрашивает в серебряный, их шелест на ветру нет-нет, да и напомнит о далёких стеклянных колокольчиках… Да, ивы и ветер – сочетание «говорящее». Ну, собственно, и Кеннет Грэм неслучайно назвал именно так свою знаменитую сказку.
Кстати, и там внешняя простота, забавные персонажи-зверьки и увлекательность сюжета перерастают при близком знакомстве в смысл за смыслом.
И вот это имя героя – столь многозначительное и красноречивое, ассоциативное сразу в нескольких аспектах – сразу вызывает симпатию. И к герою, и к самой истории. Не говоря уж о том, что звучит оно здорово: Гррант Ив – решительно и звонко, твёрдо и вкусно. Морозно и мягко в то же время.
Замечательное имя)
А ведь там оно – такое вот вкусное – не одно. Они такие все, кого ни возьми. Имена и названия так и пляшут на языке, как пузырьки лимонада: Фаррет, Яра, Денеро, Ториви – имена; Ге-Итео, Наяхана, Авраза – места; орты, эверки, тави – иные расы, или точнее, вариации на тему людей; тайху, зминог, алай – существа волшебные и не очень. А ведь ещё есть дивные хевант и хевани – принц и принцесса, «кхерст меня возьми» и «кхерстова ведьма» – или кхерстово что угодно – в виде ругательства… Каждое слово, созданное фантазией автора, просто взрыв вкусовых ощущений для читателя, который чувствует цвет и аромат слов. Нет, я не синестетик. Нет, и не оно. Я просто немного, э, понимаете, поэт. С кем не бывает.
Кстати, ещё немного о звучании слов. Думаю, вы слышали теорию, что «рычащие» имена влияют на твёрдость характера. Так или нет, не берусь судить, но здесь явно прослеживается закономерность: рычание в именах и названиях сопряжено с внутренней силой, стержнем, особенно высокой энергетикой. И это вышло наверняка случайно – инстинктивно. Вот например, тави – создания в целом безобидные, мирные. Как и забавные лесные клисы. Нет в них отдалённого громового раската. Как и в характере умницы хевани Клеонтины. А вот у остальных героев хватает и грома, и молний, и ураганов.
И раз уж речь об ураганах – посмотрим на героя, так сказать, изнутри. Описанием его внешности автор не увлекается, и очень правильно делает: он же и есть рассказчик, и по натуре весьма далёк от сомнительного приёма «герой любуется собой прекрасным в зеркале». Грант Ив – мальчишка, он занят проблемами вроде проклятия, врага, «хвоста» в виде блюстителя порядка, эверка по имени Фаррет – в общем, ему есть чем заняться помимо рассматривания своей персоны.
Да и вообще, он – ветер. Его облик человека – нечто вроде одежды, явление не постоянное. Ни своя, ни чужая внешность его не очень занимают – уж точно не с позиции красоты. Скорее, необычности или потешности, а ещё опасности – как с Кордо или зминогом.
Ветер – это само по себе оригинально. Может показаться странным, но книг, где в роли героя выступает ветер, совсем мало. Вот вы много их знаете? Моя первая ассоциация, конечно:
Ветра спрашивает мать:
«Где изволил пропадать?
Али звёзды воевал?
Али волны всё гонял?
Есть и ещё одна замечательная история о живых ветерках – это одна из глав малоизвестной (к большой моей печали) чудесной сказочной повести писателя Каверина. Вся повесть называется «Ночной Сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году», а сказка о ветерках зовётся просто: «Летающий мальчик». И там обыгрывается именно эта песня о беседе ветра с матерью. Только там ветер давно уже «рассердился на свою мать за ее советы и наставления и решил, как это часто бывает с подрастающими детьми, жить своим умом. Более того, он заключил ее в одну из подземных пещер и забыл о ней на целое тысячелетие». Но уж эту сказку, как и другие истории Каверина, я точно не буду пересказывать. Могу сбросить книгу, обращайтесь. Она замечательная. Даже для взрослых читателей.
А вот у нашего ветерка мать ничего не спрашивала и он не имел возможности с ней поссориться, он её и не знает: пропала она без вести, когда он был совсем крошкой. Спасибо «монстру» с огненными глазами, Кордо. Но хотя первый раз Грант Ив слышит имя Кордо в связи с гибелью родителей и обречён стать его жертвой сам – ненависти к нему не испытывает. Как и страха. Грант Иву интересно. Проклятие? Непонятно… но вовсе не столь важно, как возможность умчаться в дальние края, облететь весь мир, повидать и узнать людей… а тут какое-то там проклятие, скукота. Только мешает развлекаться!
Недаром наставник и по сути, приёмный отец Констатион с тревогой вздыхает: «Ты задаёшь не те вопросы, Грант Ив». И он прав: воспитанник задаёт не те вопросы, которые наверняка задали бы на его месте мы с вами. Он не придавлен горем из-за погибшей семьи, он не напуган, не помышляет о мести. Грант Ив относится к врагу примерно как мы – к непогоде. Ливень или мороз никому не нравятся, но мы ведь на них не злимся. Разгулявшиеся стихии не ненавидят, просто берут зонт или одеваются потеплее.
И довольно-таки забавно, что в зеркальном отражении «стихия» – живой ветерок – точно так же воспринимает недавнего человека, в прошлом обычного лесника Кордо. Для него стихии – это люди. Во всяком случае, поначалу, пока юноша совсем мира не знает, равно как и людей. Но чем чаще он с ними сталкивается, тем больше его отношение приближается к оценке себе подобных – начиная с обиды на злые слова и заканчивая искренней симпатией к Клеонтине и Левисиз и даже, на свой лад, заботе о них.
И всё-таки, если рассмотреть поведение Грант Ива в целом – его реакцию на новое, на неприятное, на опасность, на знакомства с различными разумными, людьми и нет – то он… типичный северный ветер! Он прохладен, легкомыслен, полон почти детского любопытства и интереса. Все его ощущения – на поверхности; он неглуп и вполне эмоционален, а вот с сильными и глубокими чувствами у него не очень. Практически всю книгу он проявляет лишь два оттенка отношений: симпатия и антипатия. Лишь в самом конце мы начинаем угадывать за симпатией нечто более серьёзное: привязанность, тревогу… и в то же самое время прохладное недоверие к одному из «хвостов» начинает переплавляться в неприязнь.
Да, пусть сюжетного завершения в первой книге по сути нет, но что есть – герой явное взрослеет. Он обретает связи с миром людей, но происходит это в тревожной, немирной атмосфере. И если вспомнить рассуждения Йоды о сторонах Силы, то подобное взросление намекает, что повод для тревог есть и у читателя. К добру ли вышло, что беспечный мальчик-ветер именно так, через предательство и бой без пощады, обретает человечность? И какие её черты? Люди, как мы знаем, существа неоднозначные.
«Летать может только тот, кто весел, бесхитростен и бессердечен»… думаю, многие вспомнят эту цитату. Так говорит взрослая Венди, бывшая подружка вечно юного Питера Пэна, своей маленькой дочке. Венди, жена и мама, уже взрослая – ей больше не дано летать. Даже с волшебной пылью фей.
Питер Пэн – живой мальчик, хотя и не вполне обычный, ведь он выращен феями и не взрослеет. Но он всё-таки человек… в определённом смысле. Однако его характеристика «весёлый, бесхитростный и бессердечный» отлично подходит и для Грант Ива, юного северного ветра. Собственно, он вообще на Питера очень похож. Полагаю, они бы отлично поладили. Конечно, вплоть до момента, когда им бы захотелось поиграть в разные игры – или Грант Ив вынужден был бы заняться тем, что не подходит под определение «играть». Он и тут – поневоле – играет не всегда. Сперва – то наставник, то проклятие, то из-за невинной шалости (вроде разгрома таверны, где нехорошие дяди неудачно пошутили) за ортом принялись гоняться эверки – аналог полицейских – во главе с неотвязным, хоть временами и полезным Фарретом… А дальше в «игру» Грант Ива вступает враг Кордо на огнедышащем зминоге. И поскольку он опасен не только орту, то юноше приходится заниматься тем же, что и ветер в песне: оберегать. Хоть и не дитя в колыбельке, а очень даже симпатичную принцессу. Или хевани, как на севере говорят.
Затем юноша снова в бегах, и среди недовольных – брат принцессы; затем он нежданно находит Левисиз – почти случайно, хотя в мире, где высшие силы не миф, а факт, трудно говорить о случайности – а затем происходят и другие события. Среди которых и ожидаемые, и совсем нет. И не все сюрпризы оборачиваются радостью. Неудивительно, что к концу книги детская весёлость Грант Ива заметно тускнеет. А бессердечность идёт на убыль ещё заметнее.
Да, на первый взгляд это неплохо: бессердечие у нас стойко ассоциируется с чем-то неприятным. Как и эгоизм, корысть… и кстати, сердце из льда, вы ведь помните знаменитую Королеву и её волшебное зеркало? Но если Джеймс Барри был прав, и от этих трёх качеств зависит умение летать… а ведь Грант Ив – ветер, и ему без полётов нельзя.
А ещё он – ветер северный. Он вплетён в систему Равновесия – а там каждый строго на своём месте, и рождение Грант Ива, говорят, даже убило его отца… Что будет, если холодный ветерок потеплеет?
Отвлекаясь от сказки – глобальное потепление ведь не очень-то хорошо для планеты, верно?
Почему же открытый финал милой, довольно жизнерадостным стилем рассказанной сказки, где даже нет подлинно ужасающего Зла, наводит на подобные размышления? Опять же спойлер, но события последней главы намекают, что испытания – и беды – героев на самом-то деле только начинаются.
А у нас имеется некое явление – или создание – под названием катрамон, и оно-то, вполне вероятно, и есть то самое Главное Зло этой сказки. А остальные лишь его жертвы… хотя не сами ли они это Зло приманили, или вскормили, или даже создали и заботливо вырастили – это ещё вопрос.
Со Злом всегда такая история.
По-моему, я столько рассуждал о Грант Иве, что мог создать неверное впечатление, будто он тут один, а прочие – фоном, на подпевках. А это совсем не так. Герои заметны не только звучными именами, но и характерами. Даже те, кто уже не появляется, – например, отец Грант Ива, Денеро. Очень любопытный персонаж. Мы знаем его лишь с чужих слов, да и тех немного, а взгляды рассказчиков пристрастны; но создаётся впечатление, что там есть некое двойное дно. Здесь вообще то и дело возникает чувство, что во всех без исключения шкафах попрятано немало скелетов.
Здесь столько колоритных и ярких образов, что можно говорить долго, но это снова занесёт нас в область спойлеров. Но они в самом деле запоминаются. Например, тави Фрида, «шоколадная дама» – симпатичная и суетливая тётушка, добрая и любящая всех от души потискать; она выглядит забавной и может показаться не тем человеком, чьим советам следует доверять, но за её манерами скрывается и практичность, и понимание мира людей, и ясный ум. В итоге Грант Ив в этом убеждается. Левисиз… тут лучше промолчать, хотя это неожиданное решение – в рамках сказки – и выглядит авторской удачей. Левисиз появляется в конце – и это вовсе не то, о чём можно бы подумать, исходя из путаных поэтичных объяснений Фриды.
Мне даже хочется процитировать: очень уж интересно, какой бы вам показалась разгадка?
«Слушай, мой мальчик: для того, чтобы избавиться от чудовища, должен ты найти Левисиз. На древнем языке Всевышних известен он как «Храм души». И в нём – мне подсказали звёзды – хранится то, чем пожертвовал Кордо ради великой силы. Я думаю, там тепло его души. Вернёшь их чудовищу, и погони прекратятся. Станешь ты свободным вольным ортом, как мечтаешь, и будешь путешествовать по миру. Так и будет».
Грант Ив понял лишь то, что ничего не понимает. Ему простительно: он-то не читал сказок)
Моим любимцем, не считая главного героя, стал местный «полицейский» – эверк, южный ветер, по имени Фаррет. Он ненамного старше Грант Ива годами, но кажется более взрослым и ответственным. И хотя «братец», как иронично зовёт его Грант Ив, и держится строго и позиций не сдаёт, демонстрируя твёрдое намерение разобраться с нарушителем по закону, – но ему хватает интуиции, чтобы понять: в деле вспыльчивого орта всё непросто. И вместо непрошибаемой строгости закона Фаррет предлагает ему помощь. Хотя легкомысленный парень не особенно-то ему благодарен: такое впечатление, что Грант Ив попросту не обладает опытом, чтобы оценить жест Фаррета, а ведь тот изрядно рискует: не только угодить под удар Кордо или пламя зминога, но и огрести от других эверков, что упустил нарушителя.
Нет, пока молодой ветерок явно не дозрел до понимания такой штуки, как дружба. Вот «хвост» – это да, это он понимает. Но чтобы всерьёз с кем-то из знакомцев подружиться, ему предстоит проникнуть в суть людских (и эверков, и тайху) душ поглубже – и столкнуться с такими вещами, как доверие, умение отдать нечто важное ради чужого блага, пойти на риск просто потому, что тебе кто-то небезразличен.
Судя по тому, что потихонечку Грант Ив всё-таки меняется, он до всего этого во второй книге дойдёт. Пока же – он ветреный в прямом смысле слова, и как я уже говорил, это – успех автора. Поставив себе задачу описать натуру живого ветра, причём ветра совсем молодого, автор с этой задачей справляется. Как и с другой задачей: показать этапы взросления. И если вначале наш герой почти на любую преграду реагирует лишь любопытством, иронией или досадой, что ему кто-то или что-то мешает, – то ближе к концу появляется совсем другое:
«Где-то на краю сознания тревожно билась мысль – только бы не навредить моим спутникам. Я же холодный, кхерст меня возьми! А тепло от дыхания Ториви уже стало слабым и едва ощутимым. Оно как будто угасало, вселяя в мысли настоящий страх. И я, пожалуй, впервые в жизни испугался».
Очень показательно и красноречиво выглядит это признание: первое, что всерьёз пугает Грант Ива, – угроза не ему лично, а его товарищам. Которые уже вряд ли в его сознании являются «хвостами», а куда ближе к понятию друзей.
Быстрый, лёгкий и я бы сказал, изящный стиль изложения – то, что замечаешь сразу. И кредит доверия к книге мигом вырастает с первых же строк. Вероятно, цитировать пролог ближе к концу отзыва – решение своеобразное, но для меня стиль не главное. Просто это – то, что на уровне узнавания, мгновенного отличия Книги от Почти-книги, Возможно-книги, Книги-если-доработать и так далее. Но судите сами:
«Утренний туман привычно плыл по землям Дерак-орта и укрывал всё плотной белой пеленой. Разливаясь по заснеженным просторам, он неспешно спрятал ледяные глыбы, растёкся по спинам высоких сугробов, погладив их упругий наст, и подобрался к стенам старой крепости. Она единственная стояла тёмным пятном посреди белоснежного царства, но ещё немного, и её окутало и спрятало в покрывале белой пелены. Туман двинулся дальше, празднуя свою власть, и… внезапно дрогнул. Лёгкая завеса всколыхнулась, словно от толчка, а через миг её прорвало мощным вихрем. Поднимая тучи снежной пыли, неудержимый поток разметал остатки бледной дымки и ринулся на крепость, как таран. Казалось, он стремился разнести её по камушку, но на полпути внезапно резко взвился выше крыши и закрутился в снежную воронку. Пушистые белые хлопья затанцевали в диком хороводе, но вскоре потянулись друг к дружке, загадочно слипаясь в белый силуэт. Словно кто-то невидимый, как умелый скульптор, ваял из снега нужный ему образ. Миг, и над крышей старой крепости зависла фигура молодого человека. Но только проявились все черты и одежда, он не удержался в воздухе, с маху угодил в сугроб и весело ругнулся.
И вот из снежного плена под блеклый свет первых солнечных лучей выбрался высокий парень. Юный, бледный и худой, но симпатичный. Светлые волосы с лёгкой серебряной искрой то беспорядочно взмывали под властью невидимого потока, то опадали, рассыпаясь по плечам. Вся одежда, включая длинный плащ, весьма удачно сливалась с общим снежным фоном.
Бодро глянув на старую крепость, парень уверенно двинулся к воротам, распахнул их и уже на ступеньках, словно спохватившись, быстро махнул плащом. Повинуясь чудесной силе, заснеженный вихрь нырнул под тяжёлую ткань, слегка подтолкнув парня в спину, и... всё разом затихло. Невнятно буркнув, парень проскользнул в тёмный коридор, завернул к потрескавшейся лестнице и влетел на второй этаж. Взгляд устремился к единственной двери на широкой площадке. Шагнув к ней, он на мгновенье замер, тревожно выдохнул и постучал.
– Ещё не время, – ответил из-за двери хриплый голос. – Подожди, Грант Ив. Я приглашу.
Парень сердито фыркнул и нехотя поплёлся к окну».
Так начинается эта история. И вот так завершается:
«Уносясь верхом на зминоге, Рошан всё же оглянулся на пожарище, задумчиво прищурился на пламя, но потом отвернулся. Если зверю вздумалось спалить бедный домишко, возможно, у него были причины. Например, испепелить неприятные воспоминания о чём-то болезненном. Ведь он не просто зверь. Рошан осмелился погладить гладкую кожу зминога, невольно заставив того повернуть шею и взглянуть на наездника. И Кан увидел не знакомые зелёно-жёлтые змеиные глаза с узким зрачком, а полностью чёрные, словно залитые чернилами. И в них был разум – не звериный.
Острое чувство, что он двинулся по следам завораживающей тайны и чужих секретов, приятно щекотало душу. А главное, Рошан Кан точно знал, что следует верным путём – в Авразу, да ещё и на зминоге. Потрясающе!»
И я согласен с Каном: это потрясающе… интересно! Не каждый любит книги, что заканчиваются не ответами на все вопросы, а ворохом новых тайн, – но согласитесь, если история уже увлекла вас, судьбы героев вам не безразличны, а ваше воображение и ум тоже приятно щекочут секреты – тогда эта история для вас. И после того, как последняя фраза дочитана, хочется немедленно схватить вторую книжку)
А теперь – в виде резюме – позволю себе порассуждать на нежно любимую тему, которая всплыла сразу, едва я поделился с автором первым впечатлением: милая и увлекательная сказка! Почему – сказка? Ведь автор позиционирует своё произведение как фэнтези.
Кто же прав?
Дальше можно не читать – это уже на любителей. Хотя я буду снова говорить об этой книжке, а как же иначе.
О различии между сказкой и фэнтези я задумался давно и писал об этом не раз. Но как говорится, это было давно и неправда, да и точка зрения с годами имеет право измениться. Или проясниться, точнее.
Что такое – сказка? Да, разумеется, это волшебная история. Тут всегда будут такие элементы, как магия, волшебные предметы, разумные говорящие животные, которые тоже условно входят в категорию «волшебных предметов», да и сами герои могут быть кем-то вроде таких животных или одушевлённых явлений природы вроде деревьев, рек, солнца или как здесь, ветра. И не одного, их тут аж два вида: северные и южные.
Но ведь и в фэнтези, могут на это возразить, всё перечисленное есть. Возьмём классику, Толкина: тут и масса волшебных предметов, и расы выдуманных существ вроде эльфов, орков и хоббитов, и боги и полубоги, которые бродят по земле и вмешиваются в дела людей… и магия. Кругом сплошная магия.
Но Властелина Колец мы уверенно причисляем к фэнтези – а допустим, «Мио, мой Мио» или «Муми-троллей» – к сказкам. Знаменитую сагу ПЛиО Мартина, бесспорно, относят к фэнтези, а упомянутых «Питера Пэна» или «Летающего мальчика» Каверина – снова к сказкам. А в отношении Гарри Поттера или «Звёздных войн» точки зрения расходятся.
Проанализировав все известные сказки, начиная, конечно, с народных, можно заметить следующее. Сказка – история ситуативная. В сказке герои помещаются в заданную ситуацию – с тем, чтобы показать, как они эту ситуацию разрешают. Сама ситуация создаётся лишь для того, чтобы героям было откуда выбираться. Именно они – их смекалка, отвага, доброта, честность (или наоборот, умение ловко солгать), дружба, верность, любовь – и являются тем стержнем, той сверхцелью, ради которой создаётся сказка.
По сути, сказка – охотничье угодье психолога. Это история о человеке и его решениях.
В сказке главное – человек.
Ну, или не-человек, который его полностью замещает. Заметьте это «замещает», я это говорю неспроста. И к этому ещё вернусь.
О чём не волнуются авторы сказок? О достоверности ситуаций. Я имею в виду не буквальную достоверность, а в рамках заданных условий. Ситуации внутри сказки могут вовсе не следовать какой-то логике. Что-то просто происходит так, а не иначе. А в другой момент произойдёт вот эдак, ибо так получается по волшебству. Тростник может запеть или нет, и это не какой-то особый тростник, и важно не просто полить его кровью, а именно кровью невинной жертвы, и он запоёт, обличая убийцу. Птица поможет одной девочке, но не поможет другой. Почему карета снова станет тыквой в полночь? Она что, умеет определять время? Если фея так всесильна, что ограничивает действие магии именно полночью?
И так далее.
Итак, мир сказки изначально условен. Он не зиждется на заданной системе аксиом. Он по сути хаотичен – если автору понадобится ввести туда ещё магию, она там появится. Равно как и волшебные предметы, звери и явления. Они появятся как непосредственная реакция на героев и их решения – но не существуют сами по себе. Взгляните на большинство классических сказок: у всех «волшебных друзей» или «волшебных врагов» явно нет своей личной задачи, кроме как реагировать на поступки героев.
Теперь рассмотрим фэнтези. А вот это уже – история систематичная. Она основана на некой твёрдой системе, которая подчинена некой логике, пусть и аксиоматика здесь противоречит тому, что реально существует или может существовать. Здесь есть магия – но она систематизирована и следует законам. Если сказка иррациональна по сути, то фэнтези содержит рацио, пусть специфичное.
И что крайне важно – в фэнтези антураж, то есть мир, имеет принципиальное значение. Зачастую он значим не меньше, чем герои. И бывает даже, что он и является «главным героем», а действующие лица вводятся скорее для оттенения мира, для иллюстрации, как там всё устроено.
Сказка – ситуация. Фэнтези – структура.
В мире сказки дом волшебника или короля может стоять посреди леса (и никого не волнует, как он снабжается продуктами и остальным), замок может зарасти терновником по крышу, и никого не озадачит, что за это время не появился новый король и не отгрохал себе новый замок, радостно подмяв под себя королевство. И так далее. Принц женился на прислуге – ну и ладненько. Все рады, все танцуют.
Мир фэнтези – это мир, чьи базовые социальные установки практически неотличимы от реальности. Да, науку здесь может заменить магия, боги могут шляться среди людей, а волшебные палочки работать не хуже смартфонов, но принц и служанка – уже нонсенс. Или бесхозный трон, который никому не нужен.
Если в мире сказки ограничения исходят от магии как таковой и могут обладать единичным эффектом – если волк помог королевичу, то это не значит, что на это способны все волки или это произойдёт с любым добрым и смелым сыном короля, – то в мире фэнтези они будут носить социальный характер. Тут вступают в силу законы людей – опирающиеся на социально-психологическую парадигму. И фея вряд ли сможет просто прийти и перекроить судьбу государства лишь потому, что ей стало жаль бедного сироту. Феи тоже – часть социума. Значит, и они существуют в рамках неких законов и ограничений.
Сказки – рамки заданы магией. Фэнтези – рамки заданы социальной структурой разумных существ.
Можно также рассмотреть ещё один интересный аспект, который не столь очевиден (впрочем, не всем покажется очевидным и предыдущий). А именно – аспект расовый.
Если мы присмотримся к сказкам, то любые говорящие и разумные существа (включая тех же фей) существуют лишь в приложении к людям. К героям и антагонистам. У них нет социума, а ведь разумные существа всегда его образуют. Но в сказках звери, птицы, деревья и прочее – по сути, слуги, и этим их цель ограничена.
Или другой вариант – помните, я говорил о полном замещении? Это сказки, где людей нет вообще. Вместо них есть… люди в нелюдском обличии. Звери, живущие в мире зверей. Муми-тролли…
Стоп. Тут начинается интереснейший спецэффект под условным названием «микс», то есть слияние, смешивание литературных традиций. И где это происходит? А очень просто – в авторской сказке.
Едва сказки перестали быть чисто народным достоянием (пусть их пересказывали все, кому не лень, перекраивая и дополняя), и их взялись создавать «с нуля», опираясь не только (или не столько) на знакомые архетипичные сюжеты, но на своё воображение, – стало возможно всё.
Например, сказка с элементами структуризации и рациональности. Где мир уже включает социум со своими непреложными законами – например, здесь есть органы правопорядка, а король проживает в столице, куда ведут транспортные пути, имеется торговля и так далее; и к нему в дом не может запросто завалиться бедная бабушка в лохмотьях, которая окажется могущественной феей. У его дома – э, замка – имеется охрана. На то он и дом короля.
С другой стороны, в мире сказки король может быть социально равен своим подданным. Почему нет?
Но кстати, то же самое может быть и в мире фэнтези. Разница в том, что в фэнтези вам потребуется хоть как-то, за строками, это обосновать. А в сказке – нет. Данность. Ситуация. Помните?
«Последний единорог» Питера Бигла. «Бесшабашный» и «Чернильное сердце» Корнелии Функе. Цикл «Замок Хоула» Дианы Джонс. Цикл «Как стать волшебником» Дуэйн.
Или особый случай, очень непростой и крайне любопытный, который заслуживает отдельного анализа: знаменитый Гарри Поттер.
Здесь миры бесспорно структурированы. Магические существа – да запросто, и у них есть свои сообщества; например, у Дуэйн в роли волшебников выступают не только люди, но и кошки, причём они разумны и живут по своим кошачьим законам, соседствуя с нашим миром, миром людей.
И разумеется, «Хранитель Севера», о котором мы и говорим.
Так почему же всё-таки эти перечисленные мною истории я склонен относить к сказкам?
Ну, кроме Гарри Поттера. Нет, всё. Молчу. Молчу!..
Ну, тут всё сложно – они и там, и там. Тут можно рассуждать скорее о степени, градусе сказочности.
И тут, полагаю, следует вспомнить о том, что изначально сказки появились как реакция на сложность и несправедливость жизни с её тяготами. В сказках люди пытались компенсировать удары судьбы, придав устройству мира некую «чувствительность к добру». Вознаградить хороших, наказать плохих. Причём подать это таким образом, словно награда и наказание являются откликом мироздания на нрав и поступки героев.
И этот момент – эта «чувствительность к добру» – сохраняется и в традиции литературной сказки. Да, современная авторская литературная сказка может быть и суровой, и жёсткой, и реалистичной в плане соответствия социальным установкам «настоящего» мира, и содержать боль и страдания… но в ней в какой-то момент проявится пресловутая «чувствительность к добру». Герою повезёт. Ему хватит сил, ума, таланта, помощи друзей и так далее. Я не любитель «роялей из кустов» – но уж если они где и приемлемы, так это в сказке.
Ну и опять же – возвращаясь к началу этого рассуждения – что находится в центре. Герои и их выбор – или структура мира, который их окружает, занимает равное место или превалирует.
Как вы понимаете, здесь уже границы размыты. Здесь многое зависит от точки зрения читателя. Но к чему вообще я пишу всё это?
Лично для меня определение «сказка» – это комплимент. Это – знак качества. По моему глубокому убеждению, писать сказки сложно. Сделать сказку увлекательной, её героев – живыми и достоверными, а погружаясь в магию с её неизбежным налётом абсурда и иррациональности, не утонуть в роялях и печально знаменитом «это же фентезя!» – всё это непросто. Современного читателя феей с палочкой не удивишь. Ему мало знать, что с героем всё хорошо, – ему хочется, чтобы путь к этому «хорошо» не был очевиден, иначе попросту скучно.
Плюс важный момент. По-моему, сказки любят такие люди, которые сами в глубине души верят в «чувствительность к добру». Пусть и не признаются. И им хочется читать о приключениях хороших людей. Расплывчато? Да. Неопределимо? Да. У каждого свои критерии «хорошего»? Естественно.
Вот поэтому-то, находя очередную чудесную сказку, которая способна удивить и увлечь, ты… рад. Просто искренне рад, что в нашем непростом и вовсе не добром мире появился очередной Сказочник.
Помните Сказочника в «Снежной Королеве» Шварца? Явного кузена Паганеля – такой же рассеянный чудак с добрыми глазами, любопытством ребёнка и верой в Добро… и шарфом, развевающемся на ветру.
Северном? Южном? А может, обоих?
Хорошая книжка, ребята, господа и товарищи. Правда, хорошая.
Кстати, что вы тут делаете до сих пор? Давно бы шли и читали)
