Рецензия на повесть «Язычница»
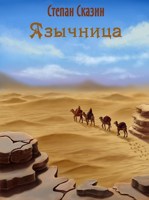
Историческая проза — сложный жанр, тем более если это проза, затрагивающая религиозные темы, вопросы нравственности и жизненного выбора. И требования к таким произведениям намного жёстче, чем к книгам приключенческим. Нужно хорошо знать тему и исторические реалии, понимать психологию людей выбранного времени.
Сегодня, к сожалению, мне придется писать очень неприятные вещи, и как историку, пусть и не по периоду, затронутому в книге, и как литературному критику. Вынуждена сразу предупредить: я не собираюсь критиковать или хвалить идею этого произведения, не собираюсь оценивать его с религиозной точки зрения. Мои взгляды на затронутые в «Язычнице» темы на разбор текста не влияют, говорить я буду только о качестве текста.
***
Рассказ «Язычница», по какой-то причине названный автором «любовным романом», повествует о начале IV века, точнее 325 или 326 годах, времени сразу после первого Вселенского Собора, на котором осудили учение пресвитера Ария. Молодой христианин-неофит Исидор послан Арием с письмом в Антиохию. Но это не история путешествия, а история поиска и потери самого себя.
Рассказ начинается с пьянства Исидора и его игры в кости, потом повествование возвращается на несколько лет назад, и Исидор вспоминает о своей первой любви, девушке Алайе, с которой его развела судьба. Постепенно из обрывков воспоминаний, перемежающихся событиями настоящего, становится понятно, что Алайю продали в рабство и юный и слабовольный Исидор не смог ее спасти. Порвал он дружбу и с другом детства, ровесником и бывшим рабом Тиридатом. Оказавшись в Александрии Исидор сталкивается с христианским проповедником Каллистратом. Молодой человек кидается из крайности в крайность, то молясь, то пьянствуя. Неожиданно на него падает выбор Ария, и герой отправляется в путешествие, в котором встретит тех, кого когда-то покинул, и эти встречи не принесут ему счастья.
Основная идея рассказа прописана очень четко: приносит ли вера счастье, или разрушает человеческие судьбы? Но тут скорее нужно говорить о религиозном фанатизме и частных трактовках христианских представлений о добре и зле, чем о вере в полном смысле этого слова. Автор атеист и не скрывает этого. И вопросы ставит очень жёстко. В чем-то я с ним могу согласиться, в чем-то — не совсем. Но тему веры я затрагивать не хочу, она личная для каждого человека.
Тема трагедии людей, столкнувшихся с фанатизмом, мне близка, особенно потому, что некоторое время назад я сама интересовалась вопросом гибели первой женщины-математика в истории — Гипатии (Ипатии) Александрийской, убитой христианскими фанатиками через несколько десятков лет после описываемых в рассказе событий. Поэтому за судьбу Тиридата, ставшего лекарем и сохранившего языческую веру, я могу опасаться. А вот остальные моменты...
Всё-таки сначала стоит сказать о достоинствах рассказа. В первую очередь это грамотность, правильное оформление, которое легко и приятно читать. Впрочем, иногда не на месте стоят запятые. Есть и неплохие описания, особенно нескольких дней поста Исидора в пещере и вызванных этим постом видений (подозреваю, что они были галлюцинациями, возникшими в результате обезвоживания из-за жары и отравления спорыньёй: герой во время поста ел только черствый хлеб, а его качество в то время было не очень хорошим; многие исследователи сейчас сходятся во мнении, что видения пустынников часто объяснялись именно отравлениями спорыньёй).
К сожалению, на этом достоинства рассказа заканчиваются. И дальше мне придется писать как историку.
Первое же предложение вызывает много вопросов:
Кабачок на окраине Александрии переполняло безудержное веселье.
Это IV век, Александрия. Там не может быть кабачков! Кабак характерен для русского государства XVI — начала ХХ веков, само слово заимствовано из тюркского. В кабаке не ели, там только продавали водку, без закуски. Так что первое же слово является грубейшим анахронизмом. Я не знаю, существовали ли в описываемое время традиционные римские термополии, аналог наших ресторанов быстрого питания, или уже исчезли, но даже слово «таверна» тут подходит намного больше.
Ещё одна цитата с первой страницы рассказа:
Рядом с игроками в кости развлекала гостей визгливая уличная гетера.
Опять анахронизм и грубая ошибка. Гетера не могла быть уличной, это свободная образованная женщина, продающая не тело (хотя зачастую и его тоже), а свои таланты ведения беседы, развлечения гостей, танца, музыки. Она не уличная шлюха. К тому же гетеры существовали во времена античной Греции, а в римскую эпоху они исчезли. Тем более их не было в описываемое время. Эта девица — шлюха, потаскуха, девка, возможно (в этом я не уверена), лупа, но не гетера.
Ещё одна цитата из самого начала рассказа:
Империя дряхлела: дикие воинственные народы штурмовали ее границы; поля зарастали сорными травами, урожаи год от года скудели; население развращалось. На плантациях, в каменоломнях и рудниках отупевали от непосильного труда тысячи и тысячи рабов. Богатые изнеженные патриции гнались за новыми и новыми удовольствиями, которыми надеялись разбавить свою пустую скучную жизнь. Сгнивающим в роскоши верхам подражала свободная беднота.
Напоминаю, это не конец II—III век, а IV. Какие могут быть плантации? Какие тысячи рабов? В то время уже были преимущественно латифундии, труд рабов на них заменялся трудом полузависимых колонов. Сейчас, к сожалению, у меня под рукой нет монографий по истории позднего Рима, точные цитаты привести не могу. Но ни о каких развращённых патрициях и подражающей им бедноте речи уже не было. Это опять же признаки II, а не IV века.
Так же ошибочно даны и бытовые подробности о жизни верхушки христианских общин. Это не время расцвета христианства, в те годы оно только было разрешено! Христиане всё ещё привлекали к себе людей аскетизмом, и в первую очередь — клир. Арий не мог пировать как патриций, потому что к нему бы тогда не пошли тысячи людей. Был ли он фанатиком или расчётливым манипулятором, не имеет значения. Он не мог вести себя так, как описано:
Во дворце Ария мраморные плиты пола ослепляли белизной. Зеленели в кадках изящные деревца. Благоухали в вазах свежесрезанные цветы. С настенных мозаик и росписей – смотрели архангелы и святые.
Пресвитер завтракал. На его седую бороду капал жир с аппетитного, поджаренного до золотистой корочки утиного бедрышка. Один слуга держал наготове полотенце, другой – подливал хозяину вина в серебряную чашу.
Эта роскошь придёт позже, в пятом—шестом веках. Но не в те годы, когда христианство только-только перестало быть религией гонимых. И описание пира у антиохийского епископа тоже неверно!
Да, буквально через несколько десятков лет монашествующие христиане, часто просто бандиты в рясах, начнут диктовать свои условия, грабить крестьян, а то и богатых горожан, и против этого выступят даже христианские богословы (очень осторожно, надо сказать). Но в эти годы подобного быть не могло.
Так же ошибочен и вот этот фрагмент:
Слуги ставили для купцов навес, прямо по песку стелили ковер. Развалившись на тюфяках, четыре пузача хлебали вино, горстями сыпали в рот изюм. Терли лбы, губы и щеки, смачно рыгали. Вели, заодно, деловой разговор о вожделенных барышах. (...) Купцы садились за роскошный ужин. В один из вечеров это был сваренный в молоке верблюжонок.
Переход по пустыне, какие там могут быть купцы-пузачи? До сих пор пустынные арабы и бедуины не отличаются объемными формами, потому что толстый человек не выдержит долгих переходов по жаре. Он или умрет от обезвоживания и перегрева, или высохнет.
Какой может быть верблюжонок в молоке? Он маленький, сосунок? Не сможет идти за караваном, да и его мать будет отставать. И чем его кормить? Взрослый? И сейчас верблюды стоят бешеных денег. Кто в то время решился бы забить единственное средство обогащения? Верблюд служит человек десятки лет, это целое состояние, тем более для купца. И откуда в пустыне молоко, да столько, чтобы в нем варить десятки килограммов мяса? И сколько часов это займет? Сколько топлива потребует? Где в пустыне искать это топливо? Сейчас нет под рукой кулинарной книги Дюма-отца, но, насколько помню, там такие блюда готовились едва ли не сутками, и только по большим праздникам, может, даже не каждый год.
Я не буду касаться моментов насильственного обращения рабов в христианство. Допускаю, что такое могло быть. Да и видела результаты обработки детей и подростков в религиозных общинах. Оставлю это как возможный вариант развития событий. Но вышеприведённые примеры роскоши христианских иерархов или купцов — они взяты словно из очень плохих "Книг для чтения по истории Древнего мира", издававшихся до Великой Отечественной войны. Даже в хрестоматиях пятидесятых годов такого уже не было. Это скорее напоминает политическую пропаганду, чем исторический рассказ.
Серьезные вопросы вызывает и ситуация, когда молодого, склонного к пьянству и неуравновешенного человека посылают с письмом за сотни миль в то самое время, когда Арий уже под угрозой низложения, когда его учение отвергнуто Вселенским Собором. Гонцом скорее пошлют человека средних лет, аскета, а если и молодого, то фанатика, а не такого, как Исидор. Может, это была проверка? Испытание верности неофита? Тогда всё становится на свои места. Но доверить ему серьезное письмо Арий не мог. Достаточно почитать материалы по раннему христианству, чтобы понять невозможность такой ситуации.
Идея рассказа удачна, и очень удачна. Судьбы Исидора и его друзей детства и юности не вызывают у меня вопросов. Я знаю такие примеры из истории, и видела подобное в нашем времени, даже, возможно, более трагичные ситуации. Но огульное низведение иерархов церкви и богатых людей до уровня полуживотных сводит всю идею на нет. А грубые ошибки и анахронизмы ещё больше усугубляют ситуацию.
***
Рецензия получилась очень жёсткой, и я это понимаю. Мне жаль. Напоследок хотела бы сказать о том, что не связано напрямую с этим рассказом, что скорее относится ко мне самой.
Я пишу рецензии не для того, чтобы только хвалить или ругать авторов. Я учусь у них. И, критикуя ошибки других, лучше вижу собственные минусы. Читая этот рассказ, я критиковала и себя тоже, потому что увидела в своих текстах похожие ошибки и скатывание на памфлет. И теперь думаю, как мне самой более полно и разносторонне описывать больные для меня темы. Зная, как сложно увидеть такие перекосы, и тем более как сложно их исправить, не исказив идею, но усилив её, сделав в полном смысле слова живой и объемной, я прошу автора поработать над текстом рассказа. Не думаю, что нужно менять сюжет (я вообще не выношу, когда автору говорят «меняй историю, меняй сюжет»). Нужно намного более точно выбирать слова, искать те, которые раскроют не одну сторону происходящего, а всю глубину трагедии этих людей. Потому что подобное повторяется и сейчас, в самых разных общинах разных конфессий (и среди атеистов я встречала подобных фанатиков). И ещё нужно намного лучше изучить описываемый период, не допускать таких грубых анахронизмов. И не скатываться на такое утрирование, карикатурные описания.
Я сама очень много лет не любила Древний Рим и представляла его почти таким, как описано в рассказе. Даже окончив истфак, я отторгала этот период времени. Но постепенно я стала интересоваться Римом. И обнаружила, что он был разным, очень разным. И рабство, которое я не выношу, там тоже было разным. И христианство распространялось в первые века не насилием над личностью, а, наоборот, поддержкой личности. Всё имеет две стороны. Нужно видеть мир в этой взаимосвязи, в бесконечности оттенков.
Один мой знакомый — религиозный фанатик, сломавший жизнь нескольким людям. Я прошу автора не уподобляться этому человеку и не отрицать иные взгляды, иные возможности взаимодействия с миром. Это принесет пользу и в жизни, и в литературе.
Ну а то, что никакой бог не сделает человека счастливым — в этом я с автором полностью согласна. И нет разницы, какой это бог и есть ли он на самом деле. Мы сами должны выбирать свой путь.
