Рецензия на повесть «Некромант и такса»
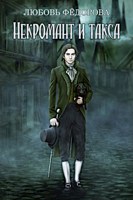
Как решаются трудные моменты в музыке? Следует открывать сердце, а не ум (тем паче, не карман), служить любви, а не идее. (с) «Некромант и такса»
Прочесть книгу... что означают эти два слова, что за ним скрывается? Как ни странно, для разных читателей – разное. Это открытие я сделал уже зрелым читателем, имеющим в активе более тридцати лет чтения и несколько тысяч книг. Не удивлюсь, если подобное откровение – читаем мы неодинаково, во многих смыслах слова, – посетило не всех, кто сейчас читает сей опус в жанре литературной критики. Кстати, жанр тоже весьма непрост и предполагает далеко не единственный подход.
Но к чему я предваряю рассуждения о Некроманте и его Таксе этими не очень внятными (и для кого-то бесспорно неинтересными и лишними) рассуждениями о чтении вообще? А к тому, что в последнее время у меня создалось впечатление, что от данного опуса ждут чего угодно – профессионального взгляда коллеги (зачастую соперника), препарирования строгого критика, списка советов от педагога по литмастерству, вердикта редактора, ну а в лучшем случае – статьи журналиста-рецензента, вроде тех, что мы можем прочесть в МИРФе и иже с ним. Есть и ещё вариант – шоу для развлечения, но это скорее относится к ожиданиям людей со стороны, которые на эмоциональном уровне с подопытной книжкой не связаны, им вообще на неё наплевать, а потому об этом я тут не говорю. Говорю я об ожиданиях тех людей, которые искренне заинтересованы в рецензии с точки зрения качества, а также – в самой книге. А это у нас кто? Ну, автор само собой, в данном случае организаторы марафона, но ещё есть несправедливо забываемая категория: читатели. Настоящие читатели. Те самые люди, благодаря которым литература как искусство существует в нашем мире веками, книги хранятся как ценности, переиздаются и конечно, покупаются. Те самые люди, которые попросту любят эти книги. Любят Читать.
Вы скажете: так ведь сам же сказал, все любят в чтении разное. Ну да. Очевидно, те, кто читает ради препарирования, серьёзного или ёрнически-циничного, тоже читать любят, на свой лад. Те, кто читает умом без участия души и сердца. Ясно, любят, раз читают... Но на мой взгляд, искусство – любое – вообще живёт в мире только за счёт касания струн душ и сердец. Искусство – это обращение к Красоте как абсолюту, поиск некой вселенской Гармонии... манифест бессмертия, если хотите. Если бы мы с вами обитали в мире моей собственной книги, я сказал бы: искусство – это мост от человека, выживающего за счёт трезвого рассудка, выгоды, здравомыслия и прагматичности, к Мерцанию Изначальному – загадочной стороне мироздания, где царствует та самая Красота, не имеющая ничего общего с желаниями наших тел и рассудков...
И вот – Читатель. Конечно, на волне всеобщей моды на психоанализ кто-то вспомнит термин «эскапизм» – именно так многие свысока именуют всё непрактичное, связанное не с материальной выгодой или телесными надобностями, а со столь тонкой материей, как стремление человека к Красоте. Здесь и тоска по идеалам, и соблюдение неких моральных принципов, религиозных или личных, извлечённых, возможно, из тех же книг, кинофильмов, а может, услышанных в детстве сказок... Но я-то считаю, что эскапизм – это совсем не то, о чём я тут пытаюсь сказать. А пытаюсь я сказать Слово о Читателе. О том, кто воспринимает искусство – в нашем случае, литературу – не только на уровне разума, но и на уровне сочувствования, сопереживания. О тех, кто искреннее сопереживает одним героям и испытывает неприязнь к другим, кто способен воспринимать боль и поражение героя так же остро, как страдания реальных людей. На что, кстати, тоже далеко не все способны. Кто-то сопереживает только кучке близких, а новости о трагедиях каких-то незнакомцев их не волнуют вовсе... и мне представляется, что эта эмоциональная глухота – диагноз всеобъемлющий. Те, кто не умеет сочувствовать героям историй, не очень умеют сочувствовать людям вообще. А какая, в общем-то, разница? Мы живём в мире историй... одни приходят к нам из новостных изданий, другие – из ума и воображения каких-то людей, но пока сами мы не стоим рядом и больно не лично нам, важен ли источник?..
Да ладно. Тема эта тянет на отдельную статью, а вернее, на отдельную книгу, и не одну. Я же просто говорю о Читателе. О том загадочном волшебстве, которое возникает между предметом искусства и зрителем, о совместном действе того, кто написал книгу, и того, кто её читает – и переживает придуманную историю как реалистичную. Нет, я не о фактах – ясно, в реальность Средиземья, Амбера или Хогвартса адекватный читатель старше семи лет вряд ли верит. Я говорю о вере в реальность людей. В тех, кого кто-то сухо именует «персонажами», кто-то с оттенком пренебрежения или в силу лени сетевой нормы сокращает до ГГ... и всем этим превращает живое в искусственное, Ромео и Отелло – в актёров в гриме, а их мечты и страдания – в холодные конструкции, выстроенные разумом, как детские сооружения из пластиковых деталей. И ценимые соответственно.
Итак, приветствую всех, меня зовут Риш, и я – Читатель. Шутки шутками, а кое-кто это моё увлечение (образ жизни, состояние, страсть, нужное подчеркнуть) всерьёз сравнивал с зависимостью наркомана. На что я тоже могу много чего сказать, но не здесь. А здесь – о том, что может сказать о книге этот самый наркоман, сорри, Читатель. И знаете что? Он, Читатель, не безмозглое существо, лишённое трезвого взгляда на мир, логического мышления и способности отличать плохое от хорошего, а картонных героев от настоящих. Он, Читатель, вполне может быть упомянутым профессиональным критиком, педагогом или редактором (и я даже знаю живые примеры). Он, Читатель, при необходимости вполне может и заняться препарированием – как патологоанатом может вне своей работы любоваться образцами человеческой красоты, в живописи и реальности. И уж конечно он – Читатель – понимает, что люди из книг не живут где-то в другой стране и не жили никогда... а впрочем, вот это как раз не факт – кто знает, откуда в головы авторов приходят именно такие характеры, имена и истории?..
Но когда я читаю – несмотря на всё вышесказанное, на чёткое осознание разницы между вымыслом и реальностью (хотя кто из нас может быть стопроцентно уверен, что эту разницу понимает, и вообще что реально, а что нет?) – в момент воссоединения с книгой я воспринимаю историю настоящих людей. Я не подвергаю сомнениям их мысли, чаяния, переживания. Я позволяю их историям втечь в моё сознание (а в подсознание что-то пролезает само, даже против моего желания). Если герои мне симпатичны, я желаю им добра, успехов и удачи. Если они мне неприятны, я рад их поражению. А очень часто всё это происходит одновременно – ведь герои-то люди, они не выкрашены строго белой или безусловно чёрной краской, иногда люди дурные вызывают сочувствие, а хорошие не трогают и даже раздражают... Бывает всякое. В точности как и в жизни.
И снова «но». Конечно, это относится не к каждой из тысяч книг, что мне довелось читать. Собственно, один из основных моих критериев отличия книги от подделки – это отсутствие такой веры, чувства реальности характеров, поступков, событий, движений разума и души. Когда хочется говорить не о живом человеке, а о «персонаже», не о цельной натуре, а о сооружении из пластиковых деталек, а обсуждать – и осуждать – не героя, а писателя.
И снова «но», ведь некоторые абсолютно всё и вся списывают на вкусовщину, на сугубо частные предпочтения конкретной персоны (в данном случае, меня), отрицая объективность и в мире вообще, и в искусстве, и в оценке книг. Но тут уж, как говорится, воля ваша, каким поклоняться предрассудкам и чем туманить ум себе и остальным... Мне достаточно знать, что суждения о плохом и хорошем я могу обосновать логическими построениями, а не одиозным «мне не нравится». А логика хороша тем, что оперирует фактами, и за любым «не нравится» следует вполне конкретное «потому что».
Но я слишком уж отклонился от темы – ведь вообще-то это рецензия на «Некроманта и Таксу», а не мой читательский манифест. Но дело в том, что в этой книге содержится – пусть и не столь явно – тот же самый манифест, провозглашаемый героем, некромантом Тимо. Да вы просто посмотрите на его слова, вынесенные в эпиграф, и увидите, о чём я. Юстин Тимо – бывший полковой кларнетист, так что отсылка к музыке естественна; но это и метафора – ведь говорит-то он далеко не только о музыке. Тимо – не искромётный гений, не бесстрашный храбрец; довольно долго (да по сути, до самого конца) он вовсе не выглядит пламенным борцом за Идею, этаким Данко. Напротив, он – самый обычный человек. И заботы у него самые что ни на есть прагматичные. В юности он занимался музыкой по воле отца; затем идёт в армию, потому что так поступают все мужчины, время-то немирное; затем он становится некромантом – вследствие юношеской глупости (как сам говорит), а ещё потому, что будучи отцом троих детишек, обязан их кормить. В общем, просто человек, каких много. И звучное «некромант» тут имеет своё значение, далёкое от привычного нам образа зловещего дяди в чёрном, который упоённо шляется ночами по кладбищам и поднимает мёртвых из могил, зачастую в нехороших целях и с активным убиением малоинтересных ему живых.
Нет, здесь у нас совсем другой вид некромантии. Собственно, мастер Тимо попросту может реагировать на неурочные смерти и общаться с неупокоенными душами. Призраками, короче. И его некромантская деятельность состоит не в поднятии трупов или сражении с зомби, а в упокоении беспокойных призраков, мешающих живым. Ну, официально состоит. Сам Тимо долгое время именно так и думает. Но – как водится в детективах – не всё тут очевидно... и герою-рассказчику, и читателю. Вот насчёт таксы – точнее, очень непростого такса по имени Тоби – я не уверен, он-то вполне мог всё знать заранее!
Кстати о читательских ожиданиях: почему-то у меня по аннотации сложилось впечатление, что именно маленький такс Тоби и рассказывает эту историю. Может, вылезла из памяти прекрасная «Ночь в тоскливом октябре», а может, построение авторских фраз непроизвольно навело на мысль... И хотя я совершенно не разочарован, но – от изложения событий с точки зрения Тоби я не отказался бы! Таинственная персона этот Тоби. Единственная загадка книги, на которую автор так и не дал отгадки. Но в данном случае это не минус. Наоборот. Отгадок тут хватает, а как говорят мастера литературного ремесла, должно быть в книге что-то, удерживающее интерес читателя, даже когда прочитана последняя из страниц.
Хотя в жанрах слова «детектив» нет, а в списке тегов «тайна» не на первом месте – но для меня эта история безусловно вписывается в ряд детективов. Посудите сами: атмосфера тайны присутствует с первых глав, герой постоянно чувствует, что у событий есть второе дно, а как только появляется неведомо как погибшая юная колдунья – то ли жертва убийства (и даже признавшийся убийца есть), то ли самоубийца, то ли обе версии справедливы – тут уж мой нюх на детективы со всей определённостью опознаёт именно этот тип истории. И как всегда бывает в приличном детективе, внимание читателя приковано к сюжету намертво главным вопросом этого жанра: что же на самом деле тут случилось?!
Но хотя книга невелика, поднимает она не один вопрос, а несколько, весьма важных и актуальных. Гибель девочки-ведьмы – далеко не всё, что предстоит расследовать и прояснить нашему герою. И хотя он, как я говорил, на первый взгляд простой обыватель, озабоченный не Высшими Целями, а благополучием своей семьи и личным камерным счастьем, и кругозор у него отнюдь не геройский – но глазами этого человека, по долгу службы прибывшего в маленький «игрушечный» городок, мы видим серьёзные и даже глобальные проблемы. От равнодушия к любым делам и бедам, кроме собственных, до роли, которую в истории человечества играют невежество, нетерпимость, фанатизм и жестокость. А ещё – поиск предназначения, не менее вечная борьба между житейским удобством и стремлением реализовать свой потенциал, идти по пути не выгоды, а таланта. Ну и разумеется – борьба между безопасностью и голосом совести.
Вообще я хотел начать совсем с другого. С первого впечатления от книги: абсолютной аутентичности. Описываемый мир – альтернативное прошлое, и именно в прошлое с его атрибутикой история нас погружает. Это то, что привычно встречать у классиков, которые описывали своё настоящее, поэтому вопрос об аутентичности не поднимался, эти люди писали о том времени, которое их окружало. Или о том, что было ими отлично изучено, – и это наш случай. Откуда бы автор ни черпал свои познания, из исторических трудов или художественной литературы, но впечатление стилистического единообразия, цельности временного пласта тут присутствует с первых строк до последних.
Герой-рассказчик – Юстин Тимо – тоже фигура цельная. Причём это относится как к портрету персонажа, так и к характеру. Тимо – цельная личность, взрослый человек со своими убеждениями, которые смог пронести сквозь тяготы жизни: война, потеря жены, нелегкая доля вдовца с выводком маленьких детей, эпидемия страшной болезни. А ведь есть и не столь явная драма: конфликт образа жизни, желательного окружающим, и душевных устремлений самого Юстина. Несмотря на то, что сам он и рассказывает историю, но раскрывает читателю эту драму далеко не сразу. Герой-рассказчик здесь вообще довольно сдержан: личными переживаниями и фонтанирующими чувствами он нас не балует. И хотя таких героев я встречал не раз, но на фоне принятого здесь (точнее, активно навязываемого) суждения, что именно бурей эмоций и должно отличаться повествование от первого лица, – хочется сказать, что герой нетипичен.
Хотя это полная ерунда. Вспомним, например, героев-рассказчиков Дика Фрэнсиса или Роджера Желязны. Кстати, героев Фрэнсиса мне Тимо и напомнил – неслучайно после этой книги меня потянуло во фрэнсисовский мир британских скачек, куда более современный, но в своём роде не менее опасный, а местами жестокий – но если взглянуть в целом, заслуживающий эпитета «цивилизованный». И к миру кларнетиста-некроманта Тимо этот эпитет также применим. Хотя – снова – напрашивается вывод о нетипичности. Ведь для нашего российского читателя. вскормленного на наших же российских образчиках фэнтези, привычно что-то, крайне далёкое от цивилизованности, к чему больше подходит характеристика «дикость». Грязь и всяческое насилие, кровь-кишки, непременная война и засилие социальной неустроенности и несправедливости... ну а как же, раз нам обещали фэнтези, да ещё и тёмное! Но здесь, пусть на первый взгляд атрибутика соблюдена, мир не отдраен до блеска, а крови хватает тоже, как и бесправия «маленьких людей» на фоне превосходства денег и силы, – но... снова «но». Общее впечатление – наш некромант живёт отнюдь не в диком мире. Здесь сделано немало шагов к социальной справедливости и признанию прав человека – будь он беден или богат, военный или штатский, привержен канонической (видимо, христианской) церкви или является колдуном. Явно и прямо всё это не декларируется – но намёков по тексту разбросано достаточно. И общая картина отлично складывается из мелочей: взаимоотношения Тимо и сопровождающих его солдат, церкви и колдунов, ситуация в городе, куда направлен Тимо для упокоения призрака ведьмы, реакция рассказчика и окружающих на новости из иноземных газет и на собственные проблемы... Рассказчик рисует нам картину быта не нарочито, а мелкими, лёгкими мазками, и оттого она кажется и убедительной, и весьма красноречивой.
Но я снова отклонился от темы – а именно, «нетипичного» характера героя. В первую очередь в голову приходит эпитет «спокойный». Тимо и впрямь спокойный человек, что в общении, что наедине с собою. При этом в его натуре сочетаются такие черты, как умение принимать обстоятельства такими, как они есть, и этим обстоятельствам соответствовать – и в то же время способность в сдержанной и тихой манере настоять на своём. И если поначалу кажется, что герой попросту плывёт по течению, делая то, что его заставили, ибо деться-то ему некуда, – но постепенно становится ясно, что этот человек отнюдь не тряпка, что его представления о жизни, о правильном и неправильном достаточно тверды, и хотя в открытую конфронтацию он вряд ли полезет – но и прогибаться под требования, которые считает неверными по сути, противоречащими его внутреннему компасу справедливости и добра, он не станет тоже. Характер, который в общем и целом описывается словом «достойный» – сдержанный и надёжный человек, на которого в трудной ситуации можно положиться.
При этом Тимо – человек скромный. Он не гиперболизирует свои внутренние проблемы, поскольку не приучен считать себя центром вселенной. Эгоцентризма в нём нет вовсе, хотя нет и явного, надрывного альтруизма. Герой типа «Не Герой», который в нужное время проявляет немало твёрдости и героизма, не заливающий читателя бурными эмоциями и при этом вовсе не бесчувственный сухарь, а живой человек, способный на сомнения и делающий сложный моральный выбор в тихой, спокойной манере – сочетание не то чтобы уникальное, но и не из самых простых.
Тема Машины... да, тут напрашивается отдельный философско-социальный трактат. Я сказал бы, автор проявляет определённую оригинальность, противопоставляя не «Машинное – Живому», но грани живого: стремление к безопасности и гуманизму, терпимость хотя бы из соображений выгоды, а с другой стороны – оживление механизма и превращение в Машину, полуживое существо, вечно голодное и жаждущее не крови как таковой, а страха и боли, жуткий вариант одушевления... именно того варианта одушевления, которое традиционно приписывается как раз некромантам. И снова мы видим отклонение от стереотипа, выворачивание его наизнанку: некромант Тимо – человек гуманный по своей сути, наделённый сопереживанием и ценящий чужие жизни и чужое душевное равновесие. Человек, который неспособен отогнать бродячее животное после того, как оно «пригрелось» и доверилось – вспомним знаменитый тезис гуманизма «Мы в ответе за тех, кого приручили». Тимо – из тех, кто всегда в ответе за тех, кого приручил... и даже не приручил, но чью судьбу может разрешить. Кроме своих детей (для многих и этого с лихвой достаточно), он в ответе за приблудного пёсика, за призрак юной ведьмы, за полубезумного священника, за чересчур успешно поднятого мёртвого кота и его хозяйку... даже за алкоголика-майора с его неиссякаемой фляжкой и несимпатичного ему писаря Душечку он становится ответствен, когда получше начинает понимать их. «Тёмный колдун с чёрным псом» – из тех людей, которым окружающие живые существа небезразличны, и за его спокойствием и сдержанностью скрывается глубокая способность к эмпатии.
Зато Машина – механизм, куда вложено другое человеческое свойство, другое небезразличие, а именно – интерес к мучениям живых существ, – эта Машина является антагонистом Тимо, явлением враждебным, с которым он, как постепенно убеждается, самой судьбой предназначен сразиться. Две грани одушевления, две стороны людской натуры тут вступают в противоборство: человеческое и человечность. Тимо сочувствует мёртвым душам, относясь к ним как к живым, – а его противник «механизирует» живых, делая их питательной средой для Машины. При этом жить-то хотят оба. Тимо вовсе не из тех героев, которые готовы легко отдать жизни за Великую Цель; он ценит свою жизнь не меньше чужих, при этом хочет, чтобы она была по возможности обеспеченной, а его дети не просто имели кусок хлеба и крышу над головой, но и не сталкивались с проблемой покупки новых ботинок. Как я говорил вначале, во многом Тимо – обычный человек с близким нам, читателям, набором житейских потребностей. Но за своё благоденствие он не готов платить несчастьями других. И если его принципы сталкиваются с превосходящей силой, которая сломает его буквально или он сломается духом, то он принимает выбор умереть.
Хотя не сдаётся и до последнего сражается – и за свою жизнь, и за поражение того, что считает злом. Он – боец, хотя и в своей небоевой, мирной и тихой манере.
Но хотя выделить одну главную линию мне нелегко, я бы рискнул назвать ею – тему Непротивления Злу. Не смиренную покорность слабых перед превосходящей силой, но то благостное, комфортное непротивление злу, которое исходит из тезиса «своя рубашка ближе к телу». Закрывание глаз на беды соседей, на многочисленные несправедливости и крохотные жестокости, пусть ненамеренные, которые нас окружают. Вроде тех же брошенных, бездмомных собак... или неупокоенные души, на разгадку смерти которых куда удобнее закрыть глаза, особенно если «виновный» найден. Или на кровь, проливаемую «ради всеобщего блага», пусть никаким благом здесь и не пахнет, – и кто скажет, что подобная немота, в которой всё решает уже не страх лишиться комфорта, а страх смерти, не произрастает из названных ранее?
Не могу удержаться и не процитировать автора, потому что она очень здорово сформулировала то, что я хотел выразить выше: «Главная тема не непротивление злу, а обыкновенность зла. Чтобы чему-то активно противиться или сознательно не противиться, нужно понимать, что это зло, именно зло, нехорошо и неправильно. Нужно видеть черту, через которую нужно или нельзя переступать. А можно привычно реагировать: «ну, так это всегда так» и уходить, не чувствуя ничего. Всё видеть, всё слышать – не закрывать глаза. и считать все происходящее нормальным, обыкновенным, обыденным. А то и даже нужным».
Это мне напомнило одну из моих любимых цитат из прекрасного Терри Пратчетта: «Зло возникает тогда, когда начинаешь обращаться с людьми как с вещами». И по-моему, сэр Терри и Любовь, каждый на свой лад, говорят нам об одном и том же.
Резюмируя всё сказанное, а также многое, что сюда, увы, не поместилось, скажу: безусловно, книга хорошая. Увлекательная, умная, глубокая, в совершенно не менторской, не назидательной форме подающая такие темы для размышления, которые определённо стоит и осмысливать, и обсуждать.
И если писатель способен на собственный способ быть неравнодушным – а я уверен, что способен, – то в «развлекательном и сказочном» произведении о некроманте и его таксе я вижу достойный способ сразиться с Машиной – на свой лад. И хочется верить, что в итоге – и победить.
Когда-нибудь, так или иначе...
