Рецензия на роман «Мёртвая вода»
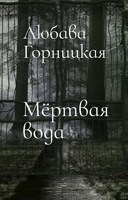
Умереть не значит исправиться, но тоже попытка.
Первое, что хочется отметить в этом произведении — язык и стиль. Это какое-то уникальное в своём роде смешение вещей, которые в принципе не должны смешиваться. Мы слышим, с одной стороны, речь взрослых и детей, живших в небедном имении в конце девятнадцатого века, с другой стороны — канцеляризмы, лозунговость и прочие прелести, характерные для первых послереволюционных лет (в которые, как можно предположить, происходит действие романа).
А с третьей стороны нас ждёт основная ткань произведения, те самые «слова автора», которые больше всего напоминают наговор колдуньи — ритмичный, монотонный, поэтический и уходящий корнями в такую невообразимую древность, в которой ещё не была проведена чёткая граница между человеком и природой, между миром живых и миром мёртвых...
Итак, в колонию для несовершеннолетних преступниц привозят трёх девочек, глазами которых мы и будем смотреть вокруг. Листик, Иришка и Ёлка. Три девочки, три полноценных мира, таких разных, но в чём-то похожих. С первых же страниц девочки покажут свои сильные и слабые стороны, дадут намёки на своё происхождение и события, которые привели их сюда.
С первых же слов книги сделается ясно, что реальность — такая, какой мы привыкли её воспринимать, — здесь скромно отойдёт в сторонку. Мы сходу попадаем в иной мир, потаённый — мир мёртвых. Здесь свои законы, принципиально не познаваемые живыми, и их можно только принять, если хочешь вернуться.
Действие происходит на острове Зелёном, где построил имение господин Ильянин. Поступок, которого не поняли даже его дети. Ведь остров отрезан от цивилизации, его периодически затапливает, и это ещё не считая кучи мелких бытовых неудобств. Ныне же господ не осталось, а в особняке уже успел побывать приют, после трансформировавшийся в колонию.
Мотив острова, на котором происходят всяческие чудеса, в литературе не нов. Наверное, подобные легенды существовали даже задолго до мифа об Атлантиде, и «Мёртвая вода» сильно, уверенно поддерживает традицию, иногда делая интересные отсылки и упоминания.
Подобно острову, который стоит меж двух берегов реки, не относясь ни к одному из них, застыл и мир этого острова, населённый странными людьми, не живыми и не мёртвыми. И точно так же, особняком, стоит текст книги. Что это? Лютый трэш (а разве можно иначе назвать книгу, где из Оленьки варят суп, а директор колонии добродушно спрашивает у воспитанниц, кто хочет помочь закопать труп?) или добрая сказка, в которой нет зла никакого вовсе, а дружба и честность — побеждают всё на свете? Попытка шокировать читателя запросто разгуливающими вокруг мертвецами и призраками или же полноценная экскурсия в иное измерение, где привычные ныне «попаданцы», со своими закидонами, могут только удостоиться чести быть закопанными вздыхающим устало директором?
Против чего хочется решительно восстать — так это против указанных жанров: ужасы, мистика, триллер. Мистика — ладно, но ужасы и триллер — совсем не про то. Впрочем, согласен, как иначе позиционировать подобную книгу и искать потенциальных читателей — загадка. Ведь массы требуют, чтобы всё было на правильных полочках...
В тегах стоит «магический реализм». Я бы предложил «мистический реализм» — вот что лучше всего охарактеризует «Мёртвую воду».
Несмотря на название, в книге совершенно нет «воды».
Несмотря на малый объём, в книге очень много всего. Мы не только пройдём с тремя девчонками путь он начала до конца этой безумной истории. Мы узнаем, что с ними произошло до колонии. Мы подружимся с сёстрами Ильяниными, которые на мельнице «Крутят колесо. Умеют молоть муку и чушь», окинем взглядом их жизни от начала и до конца. Мы узнаем их отцов, ради которых и было построено имение. Прикоснёмся к трагической истории брата и сестры, детей обезумевшей учительницы музыки. Ужаснёмся поступкам и мыслям служанки Азалии Свечниковой...
Все эти линии красиво, изящно и невыносимо поэтично сольются в единое целое. Ритуалы будут проведены, поступки свершатся, разлученные — встретятся, но... Нет, мир не рухнет, не изменится. Он, быть может, лишь согласится отпустить некоторых — тех, кто готов уйти. А сам продолжит существовать и дальше. Ведь всё в нём останется как прежде. И без мельницы никак...
Наши русские народные сказки — это неисчерпаемый кладезь глубинной мудрости и невероятных сюжетов. Поэтому меня всегда раздражают унылые потуги наших авторов состряпать из всего этого какую-то «остроумную» пародию (исключение — «Последний богатырь», он смешной, мне понравился). Тем больше удовольствия доставила мне «Мёртвая вода», где нет прямых выдёргиваний из сказок (если не считать самих мёртвой и живой воды), но есть этот знакомый мотив перехода в мир мёртвых и возвращения из него. Это — то самое, куда герои отправляются сражаться с Кощеем Бессмертным, место, куда попадают, зайдя в избушку Бабы Яги.
Место, где природа живёт разумной жизнью, и где совсем не удивительно встретить призрака или живого мертвеца. Здесь — иначе. Это не трэш и не чернуха, это — тот странный мир, который неуловимо присутствует рядом и контакт с которым мы успешно потеряли, обретя взамен цивилизованность.
Текст не играет с читателем в поддавки. Здесь нет подачи в лоб, нет объяснений всего и вся. Несмотря на кажущееся обилие чернухи, по-настоящему отвратительные вещи здесь не выставляются напоказ. Они тихо лежат, как тело, накрытое простыней в темноте. Хочешь узнать — дотронься, откинь простыню, зажги свет.
Читателю предстоит самостоятельно искать намёки и оговорки и прослеживать причинно-следственные связи между различными событиями и, казалось бы, незначительными словами.
Лучше всего это иллюстрируют слова, произнесённые паромщиком в самом начале: «Вы там это... не выбрасывайте ничего, главное. Особенно в реку. Тогда может и возвратитесь... такими, как приехали». Про эти слова легко забыть, они вообще, казалось бы, никак не играют в тексте произведения, там совершенно другие материи. Так что же это было? Просто глупое суеверие местных, которые, зная, что с островом нечисто, горазды навыдумывать всякой чепухи?
Да, нас не ткнули носом в момент, когда эти слова действительно обретают смысл. Да, о них никто не вспомнил. Но если внимательно проследить поступки спасшейся, можно с неприятным таким холодком понять, где и как она чудом скользнула по краю.
Можно бесконечно говорить о достоинствах романа. И о глубоком метафорическом значении мёртвой и живой воды, и о преемственности эпох, и о многом, многом другом (как я уже сказал, в этих десяти авторских листах — огромные богатства). Но я считаю, что читателям будет интереснее самим прочитать эту книгу и увидеть. Мне доставило удовольствие прочитать её дважды. После первого прочтения понял, что необходимо повторить. Увязать в голове все ниточки. Не могу сказать, что увязал действительно все... Но и не могу сказать, что второе прочтение было последним. Эта книга — действительно из тех, с которыми не хочется расставаться.
Чего я не понял в книге, так это почему директора зовут Олегом. Если я всё правильно прочитал, то причина, по которой у него такое имя, осталась необъяснённой вообще никак. Возможно, пропустил.
Единственное же, к чему вынужден придраться — это к невычитанности текста. Вычитка необходима. Опечатки встречаются, есть и откровенные орфографические и пунктуационные ошибки. Редактура и корректура тексту жизненно необходимы, но заниматься ими должен человек вменяемый, который не уничтожит ту потрясающую языковую игру, которая творится на страницах книги.
