Рецензия на роман «Белый охотник»
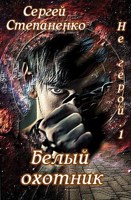
Итак, это история о страннике и приключениях среди миров, а ещё тут есть волшебники.
Собственно, отсюда можно было бы говорить о сюжете, который с места в карьер подхватывает читателя и кидает в гущу событий – точно так же, как героя без церемоний выталкивают на арену, требуя сражаться и убить, чтобы не быть убитым самому. О том, как разнообразно здешнее мироздание, содержащее сотни обитаемых планет, и на каждой планете проживает немало народностей со своим укладом и нюансами социального устройства, традициями и разумеется, своей особенной магией. Для любителей магии, интересной и разной, тут раздолье: её много, она продумана, и – о радость – ни к одной из магических практик во множестве миров не прилагаются волшебные палочки)
А можно сделать то, что я люблю особенно, то есть поговорить о герое – он здесь достаточно интересен, хотя бы тем, что в отличие от многих других героев подобных историй он не имеет каких-либо отчётливых целей, не спасает мир, не стремится возвыситься сам или повергнуть Тёмного Властелина, он даже не влюблён – и хотя он довольно молод, я не назвал бы его по-юношески пылким, категоричным и импульсивным… а ещё герой-то здесь не один, даже рассказчиков целых трое, но главный герой совсем не Белый Охотник, хоть он как раз и является одним из повествователей и обозначен в заглавии. Зато на роль полноценного героя вполне можно назначить само мироздание, вместе с Паутиной и оказывается, очень многим за её пределами, что даже серьёзным исследователям и знатокам Паутины пока неизвестно… Но внезапно вместо размышлений о Герое мне захотелось начать с прелюдии. А именно – о том, как говорят о книжках.
Полагаю, местный шаблон Правильной Рецензии видели многие. Тех, кто шаблону не следует, к счастью, тоже немало. Но вот что давно хотелось бы мне сказать и о данном шаблоне, и о литературной критике в целом… как говорят фокусники и игроки в скорлупки, следите за руками) Впрочем, они всё равно жульничают, но сама-то фраза хороша) Итак, следите за руками… У нас есть История. Есть ли она сама по себе, отдельно и от автора, и от читателя, – вопрос интересный. Но пока для простоты допустим, что она есть в мире автора – это-то бесспорно. И пока к Истории не подберётся Читатель – она в своём мире, вселенной Истории-Автора, обладает некой самостоятельной цельностью и однозначным смыслом.
Но тут появляется Читатель – и История меняется. В новой вселенной Автора-Истории-Читателя может произойти что угодно – от обретения Историей новых граней смысла и полноценной трёхмерной жизни, когда события вырываются за пределы книги, а персонажи становятся не менее живыми в рамках нашей земной истории, чем реально жившие люди, – вспомним Гамлета, вспомним Ромео и Джульетту, вспомним Макбета, Шерлока и профессора Снейпа, – но также возможно и низведение Истории к набору фраз, обесцениванию даже тех её моментов, которые имеют вес объективно (да, я придерживаюсь позиции, что таковые имеются, а кто не согласен, может написать свою статью или смириться с тем, что мысли у людей разные).
Короче говоря, объективная ценность – и что важнее, глубинный смысл Истории, заключённый в нескольких её аспектах, как собственно содержание, внутренняя гармония, мораль и люди с их выбором, – всё это напрямую зависит от персоны Читателя.
Каждой Истории необходим правильный Читатель.
Конечно, не один, но на сути явления количество не отражается.
Прекрасная История, столкнувшись с неправильным Читателем, рискует оказаться в руинах, что мы наблюдаем довольно часто. Напротив, История посредственная, попав на правильного Читателя, имеет шанс возвыситься над своей истинной сутью и обрести новый смысл – надолго ли, другой вопрос.
Но что же делает Читатель? А точнее, что делает правильный Читатель?
Он попросту погружается.
И хотя сам этот термин можно толковать весьма по-разному, доводя до абсурда (кстати, в стопроцентное погружение сам я не верю, но я ведь могу и ошибаться) – но тем не менее, надеюсь, суть явления все интуитивно понимают. Читатель не является редактором или корректором. Он не размышляет постоянно о том, каковы качества текста, – он вообще не мыслит и не чувствует в категориях текста. В мире, образованном союзом Истории и правильного Читателя, никакого текста вообще нет.
А что там есть?
Да сама История.
И по сути, именно она и должна там быть. И больше ничего.
Текст, фразы, слова, буквы, знаки препинания – это всего лишь способ донести Историю до Читателя. Если История понята, прочувствована и пережита – значит, она донесена. Или донеслась сама. Или читатель сам её до себя донёс. Выбирайте что нравится.
И когда мы говорим об Истории… о, вот тут начинается интересное! Вы ещё следите за руками? Если о ней говорит правильный Читатель – тот, для кого История и рассказывалась, и кто сумел понять её именно так, как задумано, – то о чём этот Читатель будет говорить?
О тексте? О динамике, построении, темпоритме, языке и так далее?
Да ведь в мире История-Читатель – если этот Читатель правильный – никакого текста нет! С какой стати он будет говорить о том, чего нет? И надо ли ему делать над собою усилия, пытаясь рассуждать о том, чего нет, даже если его рассуждение высказывается в формате рецензии?
Возможно, то, о чём я пытаюсь сказать, проще донести на примере театра. Когда люди выходят из театра, одни беседуют о декорациях, костюмах, режиссёрском решении и о том, как Пётр Иваныч воплотил образ Гамлета. А другие говорят о том, любил ли Гамлет Офелию, был ли безумен, являлся ли на самом деле человеком юным или зрелым и каков истинный смысл его знаменитого «Быть или не быть».
Вы ведь понимаете, не правда ли?
И мне представляется, что объективную ценность обсуждений второго рода нельзя отрицать, а сам этот подход принижать в сравнении с первым. Да, декорации, режиссёрские решения и мастерство Петра Иваныча – это дело полезное, однако если бы людей веками не волновала трагедия Гамлета, Офелии и прочих сама по себе – никаких решений и декораций вообще бы не было, и Петру Иванычу некого было бы играть, а пришлось бы ему идти в бухгалтеры. Или в садоводы.
Посему я как Читатель всегда следовал и следую принципу погружения (неосознанно, это у меня с детства происходило само, а вот тонкостям редакторского анализа пришлось научиться) – а как литературный критик предпочитаю метод герменевтики, базирующийся на учитывании субъективной индивидуальности интерпретатора и включающий, в частности, принцип эмоциональности (чтобы быть понятым, произведение должно быть прочувствовано реципиентом) и принцип единства формы и содержания (основная цель анализа произведения — установление личностного взаимопонимания между читателем и текстом).
И вот теперь, когда сие затянувшееся предисловие высказано – выдохнуто, – я на сей счёт слегка успокоился, хотя и подозреваю, что суть не все поймут. Но главное я сделать попытался: в кои-то веки донести до тех, кто всё это читает, что рецензия не обязательно должна быть написана в стиле рассуждений о декорациях, качестве игры Петра Иваныча и режиссёрских находках; рассуждение об Истории как таковой – это также разновидность литературной критики и заслуживает внимания.
Во всяком случае, если к этому рассуждению приложены усилия разума.
Так почему же книга «Белый охотник» на самом деле представляется мне вовсе не историей Белого охотника по имени Элгид, хотя его в этой книге немало, и он отлично вписывается в образ Героя – действует, переосмысливает свои взгляды, растёт над собой, принимает нелёгкие решения, меняется?
Дело даже не в том, что рассказывает историю не только Белый охотник, а в основном юноша по имени Тони Старк, то есть, конечно, нет – Тони лишь выбранный им псевдоним, а вообще-то он простой парень Роман, который просто умеет странствовать по Паутине, а ещё просто волшебник, да не какой попало, а маг Хаоса… ну и ещё он просто вроде как принц, наследник правителя Иррата, носящий в себе кровь создателя Паутины… в общем, обычнейший парень, каких завались.
Об Иррате, его правителе Артуре (по совместительству великом приключенце, известном в мирах Паутины как Арчи Бесстрашный) и о самой Паутине нам здесь не расскажут – поскольку уже рассказали в предыдущих книгах эпопеи, в частности «Три кольца небесной сферы», о которой я тоже в своё время писал, и тоже с восторгом… Вы ещё не заметили восторга? Ну, вот это вы зря. Книга совершенно отличная – ничуть не хуже «Трёх колец», хотя есть расхожее мнение, что когда писатель берётся за детей героев, то всё становится печальнее, труба пониже, дым пожиже… А вот тут никакого «пожиже» я не заметил. Книга сталкивает Романа-Тони – и нас заодно – с новыми мирами, народами, традициями и новыми гранями мироустройства, расширяя картину Паутины, хотя казалось бы, куда её расширять, у нас и так есть куча планет, связанных незримыми тропами, по которым могут странствовать лишь немногие избранные. Откуда эти избранные берутся, вопрос загадочный, а чем в Паутине занимаются – да как и любые странники: кто-то приключается, влипая в авантюры, кто-то занят делами незаконными (в Паутине есть и законы), а кто-то следит за тем, чтобы законы соблюдались.
Наш главный герой – простой маг Хаоса Ромка – стажёр организации, которая за порядком и следит: Координационной службы. Правда, до того, как попасть в академию этой службы, он и поприключаться на грани закона успел, следуя по стопам знаменитого папаши, а сперва мирно жил себе в родной Ялте, пока случайно не встретил одного таксиста, очень здорово владеющего приёмами рукопашного боя, – и заверте…
Вообще вся жизнь Романа, которую мы видим на страницах книги, в настоящем и в экскурсах в прошлое, отлично описывается этим самым «и заверте…» – он мастер влипать. Причём не сам он влипает, а судьба у него такая – влипательная. Вот например, отправляется он с группой стажёров на обычное задание в Паутину – и влипает похлеще Алисы с её кроличьей норкой: та хотя бы не попадает на арену гладиаторов, а вот Ромке именно так и повезло. Потом он умудряется сбежать – чисто случайно… ну да, ну конечно, случайно, как же иначе! – и снова влипает в обучение к экзотическому старому погодному волшебнику, дальнему родичу Йоды (во всяком случае, такому же любителю говорить загадками). А затем влипает наш герой в роль полноценного погодника – то есть, защитника и невольного товарища именно тех ребят, кто недавно держал его в плену и заставлял биться на арене до смерти, под угрозой быть скормленным Шаабу. И пока Роман, он же Тони, он же Вандревелл, даже не подозревает, что хищное чудовище, которое живёт под ареной и кормится несчастными проигравшими бойцами, – это не просто монстр, а энергосборник, и не сам он в этом странном разорённом мире завёлся, а поместили его сюда нарочно – и даже не это интересно, а то, что люди, которые разводят хищных тварей и погружают страны в упадок, вовсе не думают, будто делают нечто нехорошее. Ну, жертвуют они мирками дикарей – но ведь ради великих целей! Аж цивилизацию спасают, прогрессивную и технически развитую. А какие-то дурацкие Белые охотники им мешают, их же ещё и называя злыми волшебниками. Но что взять с дикарей!
Да, понять перипетии отношений «злобных магов» Хартианы, Белых охотников и обычных людей – штука непростая, и всё это в краткий пересказ никак не уложить. Да и не надо – в книге это выглядит куда интереснее.
Но что тут стоит отметить. Во-первых, изящную игру в сходство технологии и магии – да, объединяют их многие, сейчас особо не удивишь читателя тем, что в одном мире соседствуют и антигравы с лазерами, и волшебство. Или удивишь? Ну ладно… Но здесь мы видим сразу несколько вариантов такого объединения, начиная с самой Паутины и её обитателей; и особенно интересным кажется искренняя убеждённость Белых охотников в том, что их враги – хартианцы – именно маги. Причём они не просто жертвы суеверия – охотники магию чувствуют. Например, Элгид сразу чувствует мага в ушастом Вандревелле и долго привыкает ему доверять – маги-то враги, с ними не брататься надо, а убивать на месте, и за дело, они ведь разводят нечисть и рушат миры… Но хартианцы – мало того, что магами себя не считают, а используют лишь достижения высоких технологий, они в магию не очень-то и верят. А вот в науку, в торжество чистого разума верят фанатично, старательно устраняя из своей жизни такие «дикарские пережитки», как например, любовь, семья, эмоциональные узы. Нерационально всё это, а значит – не нужно.
И наш герой – Ромка-Тони – влип ещё и в эти самые «нерациональные узы» с красивой стажёркой Ликой, которая пропадает, когда группа проваливается в мир-ловушку с ареной, битвами насмерть и кровожадным Шаабом. А когда Лика появляется вновь, то оказывается тем ещё сюрпризом… в общем, герою нашему с магией везёт куда больше, чем с романтикой. Судя по обрывочным воспоминаниям, раньше он вообще был влюблён в девушку-вампира… ну, или там имела место слишком запутанная история, чтобы уловить суть из осколков памяти.
Моё повествование о книге также может показаться хаотичным, но оно соответствует истории – здесь нет ровного, плавного развития событий; здесь случаются неожиданности, падения и рывки; здесь многое решает Случай – хотя иногда так лишь кажется. В первую очередь так кажется Роману, который во всё влипает вслепую и лишь понемногу, по крупицам, к финалу собирает всё в цельную картину, понимая, что в ней очень многое было и есть неслучайно.
И тут я всё-таки добираюсь до того, с чего сперва собирался начать. Может, и стоило, но уж как получилось. Ромка и его влипание в «случайности». Негероический герой – не только читатели, но и сами авторы именно так его называют. Почему негероический, понятно: молодой маг в основном занят тем, что реагирует на события. Сам он их за всю книгу практически не генерирует, не запускает; его задача тут – на первый взгляд – чисто пассивная: не он предпринимает какие-то действия, а с ним что-то происходит, и он притирается, адаптируется и старается выжить – а заодно помочь выжить тем, кто оказался с ним рядом на одной стороне.
И тут снова начинается интересное. Потому что «на одной стороне» с Романом оказывается множество самых разных персон, и далеко не все изначально ему симпатичны и настроены благожелательно. Начиная с сокурсника и товарища по плену Айси, о котором он говорит: «В Академии мы с Айси едва терпели друг друга, и только страх отчисления удерживал нас от открытых столкновений. Лишь оказавшись вдвоём в этом проклятом мире, мы начали понемногу понимать друг друга». Затем этот «едва терпевший» его в дни учёбы человек жертвует собою, спасая Романа и вызывая естественное желание мстить гадам-харвам, запихнувшим их на арену… но проходит совсем немного времени – и под личиной погодника Вандревелла Роман становится не только формальным защитником этих самых харвов; он вливается в их жизнь, заводит товарищей, искренне переживает за ребят, уходящих на суровое испытание, а потом спасает одного из них, даже не задумываясь, что за магическое исцеление платит собственными жизненными силами… На фоне всего этого, а затем и взаимоотношений Ромки с вождём харвов Цабейком, Белым охотником Элгидом, «ведьмой» Ликой и вообще всеми, кто ему по сюжету встречается, – невольно спрашиваешь себя: а погибший Айси изменил отношение к Ромке потому, что они оба «начали понемногу понимать друг друга» – или на самом деле это Роман начал понимать его?
Потому что как минимум одно деяние этот негероический герой совершает постоянно, всю книгу, и оно вполне тянет на особый магический дар – дар Понимания. Несмотря на свою молодость (всего-то двадцать три года – даже по нашим меркам почти мальчишка, не говоря о возрастных рамках Паутины) он отлично умеет интуитивно понимать людей – не умом, а ощущать их суть, лучшее в них… и проявлять это. Я практически уверен, что не без Ромкиного «дара» и его угрюмый сокурсник, и лишённый сентиментальности воин Цабейк идут на самопожертвование; но тут я могу и ошибиться. Но вот Элгид и Лика – тут всё очевидно и однозначно.
Белый охотник, который вроде бы является главным героем, ведь это он попал в название книги, – совсем не мальчишка и не из тех, кто легко поддаётся чужому влиянию. Он взрослый мужчина со своими убеждениями, и ради них он готов рисковать жизнью. Да и вообще по натуре он человек упрямый, если не сказать – упёртый. Но как только он попадает в сферу даже не влияния, а просто присутствия молодого мага, которого поначалу считает врагом и мечтает прикончить, – Элгид начинает понемногу пересматривать взгляды на мир, не сразу замечая это. И потом эти изменения затрагивают уже и других людей, с которыми Элгид общается: он начинает иначе видеть нелюбимого наставника, затем «ведьму»… а с той происходит то же самое – и тоже после встречи с Романом, который сперва выглядит для неё примитивным дикарём (с точки зрения хартианцев все мы недалеко ушли от пещер). Но дитя сверх-прогрессивного и рационального мира Хартианы Лика тоже медленно и неуклонно меняется – сперва иначе смотрит на одного конкретного «дикаря» Тони, потом – на своих сограждан, их ценности и цели, потом – на врагов вроде Элгида и прочих Белых охотников…
И всё это складывается для меня в картину: Ромка Сагиров, он же Тони, Вандревелл и Роман Ирратский – и его истинный магический дар… хотя и от Хаоса – но состоит он в том, чтобы из чужих душ этот самый хаос убирать. Оставляя подлинную суть… светлую её составляющую. А может, в Хаосе-то и дело? И сперва наш маг, сам того не ведая, учиняет этот хаос в мировосприятии окружающих, ломая их установки и барьеры, – а потом хаос же и уносит обломки, а настоящее, истинное – остаётся.
Сработал бы такой причудливый дар с плохим человеком, вопрос. На протяжении книги однозначно плохих людей Ромке не попадалось – во всяком случае, он с ними близко не контактировал. Правда, лечивший его врач-хартианин кажется человеком весьма неприятным и лучше не становится; но и Роман от него эмоционально отстранён, не делает шагов к сближению. Требование сюжета? Или проявление того самого дара, который выражается, в частности, и в том, что его обладатель попросту чувствует тех, к кому близко подходить не стоит?
Интересно, а в момент судьбоносной встречи сына с отцом – кто был инициатором, вчерашний школьник или загадочный таксист? Деталей здесь нет, но кто же мне мешает прочесть все остальные книги?
И если рассматривать негеройского героя Ромку как своеобразный Катализатор Сути – и в душах, и в разуме тех, кто окружает его, – то возникает любопытная интерпретация названия… Белые охотники борются со злыми магами и их порождениями; их задача – очищать мир от зла. Правда, не очень-то они эффективны, но ведь стараются. Но тогда в определённом смысле кто же сам Ромка, как не такой вот «белый охотник», освобождающий мир от злой магии и её порождений – в виде шор на людских сознаниях, страха перед непонятным, раскладки на чёрное и белое, своих и врагов… Даже если посмотреть на буквальную цель Белых охотников – уничтожение злой власти Хартианы – то ведь и этого достигает именно Роман, причём тут уже он предпринимает вполне осознанные действия, тут он точно знает, какого эффекта добивается.
Вот такой получился «взгляд Читателя изнутри Истории» – на путь героя, осознанность, магию и виды действий. И кстати, если уж вспомнить знаменитый Путь Героя – то ведь Роман-то его проходит. Он ведь тоже преодолевает этапы по Воглеру, хотя своеобразно: если период плена и арены сопоставить с «обыденным миром», хотя бы на данном этапе, то дальше мы увидим и Зов (побег), и Отвержение Зова (сперва Роман хочет лишь вернуться в Паутину к своей стажировке), и Встречу с Наставником (в этом качестве можно рассмотреть и Проводника, и старого погодника), и Преодоление порога – это, конечно, работа погодником в поселении Цабейка, и Встречу с союзниками и врагами (тут появляются Элгид и Лика), и Приближение к сокрытой пещере – попадание в Хартиану, и Переломный этап, главное испытание – то, что происходит с Романом в Хаосе… и так далее.
Бесспорно, он – герой с точки зрения построения сюжета. Он обретает опыт, новую силу; он переосмысливает себя-прежнего, взрослеет, меняется. Тот юноша на арене, которого мы видим вначале, а затем ученик погодного мага – это совсем не тот Роман, который уверенно заявляет о своём праве говорить от лица правителя Иррата – и похоже, впервые вслух называет свой истинный титул. И то, что этому повороту его собеседники не удивлены, уже намекает на многое.
Что сказать в рамках рецензии о недостатках? Книге не помешает корректура, но она написана приятным, лёгким и исключительно читабельным языком, страдающим разве что от опечаток. Как читатель я в претензии разве что по трём пунктам, трём неотвеченным вопросам: кто поставил капкан, убивший Ингельдино; чем были зелёные огоньки; и главное – вот тут я рискну заподозрить сюжетную неточность – отчего Шааб взбесился лишь при битве Романа с Айси, ведь все предыдущие бои не были бескровны, Роман-то получал ранения, а значит, капли его крови и прежде падали на песок?
Если уж говорить о неотвеченных вопросах, то у меня они есть и к хартианцам: то, что они легко жертвовали жизнями посторонних людей ради своих Высших Целей, вполне понятно и весьма по-человечески; но неужто все они действительно не понимали, какой ценой покупают необходимую энергию и чем питаются их «накопители»? Или понимали прекрасно, но предпочитали не обдумывать – и уж точно не обсуждать с наивной молодёжью вроде Лики, прокачанной «незыблемыми истинами»? В общем, тоже знакомо…
Уж если вспомнить о герменевтическом методе литкритики и о контекстуальном принципе (интерпретация невозможна без погруженности в конкретную культурно-историческую традицию), то в этом лёгком и развлекательном произведении веяния времени очень заметны – они просто бросаются в глаза. Тонкое лицемерие, выраженное в готовности закрывать глаза на суть вещей; охотное и бездумное деление на «своих-хороших и злобных магов», причём злобных магов вроде и нет вообще – а с другой стороны, есть основания назвать так обе стороны; пассивное принятие вполне неплохими и неглупыми людьми текущего положения вещей, каким бы диким они ни выглядело со стороны; технологии на уровне, уже во многом приближенном к магии, и непонимание глубинных процессов, которые запущены достижением этих технологий… Серию книг о Паутине не раз уже сравнивали со знаменитым «Амбером» Желязны, и не без оснований, некое сходство тут и впрямь имеется; однако мне представляется, что живи авторы во времена великого Роджера, они написали бы эти истории иначе – как и он обозначил бы в «Амбере» иные акценты, живи он здесь и сейчас.
Но тема привязки произведения к времени, влияние традиций и духовного контекста – всё это слишком обширно, хотя и очень интересно, но я и так уже совершенно выбился из графика, да и такой анализ скорее подходит для исследования, чем для рецензии.
В завершение вспомню ещё один из принципов герменевтического метода: принцип диалогичности (духовный мир, заключенный в произведении, связывает автора и интерпретаторов с традицией). И тут я не удержусь от заныривания в одну из любимых тем, а именно – сказку. Древнейшая традиция литературы, согласитесь. И когда я читал «Белого охотника», естественно, вспоминая предшествующие «Три кольца», а следом и другие книги этих авторов, – не мог удержаться от мысли, что это типичные сказки. Рассуждений о том, чем сказка отличается от фэнтези, хватило бы ещё на такую же статью, и они не раз уже просачивались в мои рецензии; и в ходе этих рассуждений был подмечен такой признак сказки, как «чувствительность к добру». В литературных сказках этот признак выражается не столь явно и прямо, как в народных; тем более, если говорить о современной литературной сказке, проникнутой реалиями времени и наследующей мировые литературные традиции. Однако если присмотреться к тем произведениям, в которых ощущается скорее именно сказка, чем фэнтези, – то «чувствительность к добру» найдётся в каждом.
В этом плане весьма интересны произведения упомянутого здесь Роджера Желязны, и в частности – Амбер. Хотя почти все книги Желязны насыщены разнообразной магией, а зачастую она смыкается с высокими технологиями и причудливо переплетается с ними – но сказать о том же Амбере «фэнтези»… буквально не поворачивается язык. Меня всегда занимал литературный феномен, касающийся этого автора: когда заходит речь о фэнтези, крайне редко вспоминают Желязны. А ведь магия… магия! Мерлин, сын Корвина, постоянно использует именно это слово, зовёт себя магом, колдует, творит волшебство; тема волшебства пронизывает не только Амберский цикл… у Желязны есть даже пара книг с героем-эльфом! Но тем не менее в сознании многих людей его книги с понятием «фэнтези» не ассоциируются.
И раздумывая о бесспорной сказочности «Белого охотника» и любопытной двусмысленности названия – именно в символической концепции сказки, – я вдруг подумал, что ведь Амбер – это тоже сказка, самая настоящая, и пресловутая «чувствительность мира к добру» у него имеется всегда: доброта героев рано или поздно окупается, хороший человек пройдёт испытания, и даже несмотря на страдания и потери, он не окажется проигравшим. Его моральная победа будет очевидна, и чаще всего к ней присовокупится и победа земная, буквальная, зримая.
То же самое я нахожу в «Белом охотнике». По сути, герой – классический Добрый Волшебник, а в чём традиционно задача Волшебника? Помогать, наставлять, подталкивать к добру. Именно этим и занят Ромка. Правда, обычно в сказках Волшебники – это помощники, наставники, но не сами герои, которые нуждаются в наставлениях; но кто сказал, что нельзя ввести такого Волшебника в юности, показать и его взросление?
Кстати, в этом контексте интересно, что другие герои – те, кому наставления как раз требуются, Элгид и Лика, – думая о Ромке, видят его именно как Волшебника. Не как молодого парня, почти мальчишку, во многом неопытного, неумелого, – а как персону, обладающую неким тайным знанием, особой странной силой, поднимающей его над ними. Даже когда они идут его спасать, то это не декларируется как «выручить товарища из беды» – это операция по спасению не столько Романа, сколько мира от него.
Даже Цабейк, изначально знающий, что новый погодник – лишь ученик, очень скоро об этом забывает и воспринимает Вандревелла как равного. А Элгид, даже увидев его без личины, лишь разумом отмечает факт, что тот ещё очень молод, – и как будто бы мигом об этом факте забывает.
При этом Ромка и правда очень молод – его портрет вполне соответствует возрасту, когда мы смотрим его глазами. Но если бы эта история была целиком рассказана Элгидом, Ликой, кем-то ещё – но не Романом? Не восприняли бы мы тогда его как человека психологически зрелого и куда более мудрого и сведущего, чем недоучившийся мальчишка?
Мальчишка, кстати, умеет и любит учиться – и это тоже любопытный штрих. В нём совершенно нет чванства, нет ложного самолюбия; он очень спокойно принимает роль ученика, интересуясь не тем, как он выглядит со стороны, а тем, что и как он делает. А такое отношение, на мой взгляд, тоже говорит о зрелости и определённой силе характера – во всяком случае, о духовном равновесии, которое, кстати, он по ходу сюжета демонстрирует не раз. Это можно назвать смирением – но смирение подлинное, не показное, и при этом соседствующее с реальной силой (а она у Романа есть) отнюдь не так часто встречается, и тем более, у юных героев.
Закругляя этот многобуквенный трактат, могу сказать лишь одно: да, это увлекательная книга, написанная живым языком, наполненная магией и приключениями; бесспорно, это та самая литература, которую зовут развлекательной. Но при этом она отнюдь не безмысленна – и читатель, желающий развлекаться не бездумно, может спокойно брать эту книгу, она его не разочарует. Правда, лучше взять её после цикла об Арчи с общим названием «Изнанка реальности» – и помнить, что грядёт продолжение.
И всё-таки, что же там вышло с Шаабом?
