Рецензия на роман «Боевой 1918 год-3»
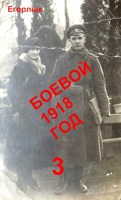
Рецензия на третий том альтернативно-исторической эпопеи Владислава Конюшевского «Боевой 1918 год» будет выдержана в более критических тонах, чем рецензия на предыдущие два тома. Серия заслуживает всяческой похвалы в силу самой постановки задачи ускорения победы красных в гражданской войне, ироничного стиля автора и динамичной приключенческой фабулы, однако сейчас необходимо сосредоточиться на «узких местах». Желающих ознакомиться с общими принципами построения сценариев контрфактического моделирования истории России в XX веке я отошлю к предыдущей рецензии, здесь же ограничусь кратким напоминанием основных проблем исторического развития нашей страны.
Переход капитализма к монополистической стадии развития привел к кризису перенакопления в центре и заблокировал возможность индустриализации периферии и полупериферии к коей относилась и Россия. Россия будучи «слабым звеном в цепи империалистических держав» по меткому выражению Ленина «страдала как от капитализма, так и от недостатка его развития». Противоречия между трудом и капиталом, выражение высокой нормой эксплуатации, типичной для тогдашнего мира, обострялись двумя структурными разрывами: аграрным перенаселением и диспропорциями инвестиционного сектора промышленности, прежде всего неразвитостью машиностроения. Разрешить эти противоречия можно было только на базе социализма. Большевистская практика в общих чертах известна – ГОЭЛРО + ликвидация безграмотности. Норма накопления резко увеличивается выше равновесия – пропорционально возрастают инвестиции в промышленную инфраструктуру и человеческий потенциал. В структуре вложений промышленность приоритет отдается инвестиционному комплексу – машиностроению и особенно станкостроению. Производство станков ради производства станков увеличивает темпы роста всех отраслей, создает рабочие места в промышленности и позволяет переселить избыток сельского населения в города. Сам агарный сектор кооперируется. При этом повышения нормы накопления требует снижения имущественного неравенства, чтобы поддержать уровень жизни народных масс. Иными словами – сверхпотребление имущих классов это первая статья экономии. Необходимым инструментами такой политики выступают национализация крупной частной собственности, устраняющая имущие классы; монополия внешней торговли, позволяющая избежать специализации зависимого развития, расцепив структуру экспорта и структуру производства; и, наконец, макроэкономическое планирование, позволяющая поддерживать межотраслевой баланс и гасить автоколебания в тех условиях когда рыночные механизмы не могут найти равновесия из-за нестационарности экономики. Так в общих чертах устроен механизм социалистической модернизации.
Гражданская война в России была препятствием на пути к социалистической модернизации, запущенной лишь с принятием плана ГОЭЛРО в декабре 1920 года, хотя первые шаги к организации промышленности, науки, образования и здравоохранения начали предприниматься уже в 1918 году. Именно поэтому анализ возможности минимизации военных потерь вполне достойная задача для художественного произведения. Для этого следует разобраться в причинах революции и в причинах гражданской войны, что не одно и тоже. Выше были кратко описаны предпосылки и последствия формационного перехода – объективные противоречия социально-экономического развития и механизмы их разрешения. Наличие необходимых условий для революции еще не объясняет, почему она произошла именно тогда, когда произошла. Революция 1917 года была следствиям мобилизационных усилий России в Первой Мировой войне. Россия в 1916 начала делать то, что в 1913 надо было закончить – разворачивать военное производство, мобилизовать транспорт, проводить продразверстку. Недостатки развития трансформировались в неспособность мобилизовать наличный потенциал. Война вручила власть военно-промышленной элите, сумевшей в феврале 1917 отстранить старые помещичье-бюрократические элиты. Однако именно война и не позволила новым буржуазным элитам власть удержать. И именно тотальный снос элит на протяжении 1917-18 гг. открыл окно возможностей для формационного перехода. Советская власть не имела иной возможности, кроме как сформировать управленческий аппарат с нуля, при этом расширения и усложнение объекта управления в ходе модернизации – рост промышленных городов и повышение образовательного уровня населения не только создавал много качественных рабочих мест, но и изменял социальную базу из которой рекрутировались кадры управленческого аппарата. Принципиально важно, что в 1917 старые элиты потеряли свой социальный капитал и в новый управленческий аппарат рекрутировались на общих основаниях исходя из компетенций, а не статусов. Именно поэтому в реальном 1918 году Россия вести войну с Германией не могла без офицеров армия превращается в неуправляемую толпу, а старый офицерский корпус подлежал расформированию прежде, чем будет сформирован новый, лояльный партии и не связанный старой иерархией. Такая же ситуация была в экономике и других сферах общественной жизни – государство следовало перезапустить. Необходимость столь радикальных мер была обусловлена именно сменой формации – без замены кадров и полной реорганизации все вернулось бы на круги своя и не произошло бы изменения модели развития на более прогрессивную, т.е. обеспечивающую более высокие темпы роста, уровни развития производительных сил и человеческого потенциала, а так же, что немало важно, низкий уровень социального неравенства.
Реализация программы социалистической модернизации это процесс длительный с единицей планирования в пятилетку, в 1917 жизнь России определялась тремя животрепещущими вопросами – о власти, о мире и о земле. Вопрос о власти это переход от сословно-классово управления к советско-партийному. Вопрос о мире – невозможность продолжать войну с Германией при перезагрузке системы управления. Вопрос о земле – запрет частной собственности на землю и черном переделе между крестьянами. Именно земельный вопрос определял напряженность внутренней обстановки в годы Гражданской войны крестьяне соглашались терпеть продразвёрстку в военное время в обмен на землю. Но если решение земельного вопроса, пусть и грубое, могла предложить только Советская власть, но не её противники, то два вытекающих из земельного передела вопроса – национальный и казачий служили основным топливом гражданской войны. На Дону и Кубани самых плодородных землях России передел земли вызывал конфликт между русскими иногородними крестьянами и казачеством как «служилым крестьянством», освоившим эти земли, когда они были фронтиром. На Тереке в Приуралье и Степном крае Сибири конфликты за земли носили межэтнический характер. Свирепый антикоммунизм предводителей казачества слабозаселённых областей Забайкалья, Приамурья и Уссурийского края объективных оснований не имеет, и, вероятно, обусловлен вынужденной социальной архаизацией – Семенов или Унгерн видели себя кем-то вроде раннесредневековых харизматичных ханов, ведущих «людей длинной воли» грабить окрестные племена. Белое офицерство могло рассчитывать на поддержку снизу только в казачьих областях – крестьяне, если из-за тягот продразверстки и выступали против красных, то в составе «зеленых» повстанческих отрядов эсеровской или анархистской ориентации, не на стороне белых, куда они могли попасть лишь в случае мобилизации и где служить не стремились, предпочитая дезертировать. Нахождение компромисса с казачеством – «вооружённым крестьянством степного фронтира» ключ к избавлению от многих мук гражданской войны. Значимость этой проблематики сделала Шолохова крупнейшим советским писателем. К сожалению, сценариям решения казачьего вопроса в «Боевом 1918» уделено недостаточно внимание, и предложение переселиться на дальние окраины страны вряд ли обрадовало бы донцев больше, чем «расказачивания». Решения надо было искать в политической плоскости, через включение в Советы не только рабочих, крестьянских и солдатских, но и казачьих депутатов, причем необходимо было оторвать казачью массу от старшины, перехватить цепочки командования. При этом очевидных упущенных возможностей не просматривается в реальной истории часть казаков пошла за красными, но проблемы это не решило. Решение национального вопрос в целом было нащупано это федеральное устройство с представительством всех населяющих огромную страну народов. При этом «сталинский» вариант надэтнической нации с культурно-территориальной автономией и поддержкой локальных языков устойчивее «ленинского» варианта федерации национальных республик, которые при этом оказались отнюдь не моноэтническими, но породили иллюзию «титульной нации». Ленинский проект СССР был предназначен для интеграции еще большего масштаба, чем объединяющая макрорегион империя – это ступенька к будущему объединённому человечеству и пока кроме СССР/СЭВ и ЕС другого опыта надгосударственной интеграции не предложено.
Третий том эпопеи «Боевой 1918 год» охватывает более чем насыщенный событиями период с поздней весны до ранней осени. Восстание Чехословацкого корпуса запустило цепочку кризисных событий, развернувшихся полномасштабную войну. Ноябрьская революция в Германии и окончательное поражение блока центральных держав были крупнейшим политическим событием 1918 года, оказавшим существенное влияние на ход гражданской войны в России. Изгнание немецких оккупантов давало шанс красным восстановить территориальную целостность России и прекратить гражданскую войну, белым же шанс на продолжение войны давало высвобождение ресурсов Антанты. В альтернативной реальности чехословацкий корпус был предусмотрительно удален из России, хотя логистика этой операции осталась за кадром. Из трех путей, связывавших Россию с внешним миром в ходе мировых войн северного, восточного и южного чехи выбрали самый длинный, восточный. Наиболее быстрым был северный маршрут, но особенно интересен южный с переброской чехословацкого корпуса на Кавказский фронт и далее в Персию. Так же возможно использование всех трех маршрутов с максимальным раздроблением корпуса. В отсутствие чехословаков красные гарантировано удержат Поволжье и, скорее всего, удержат Урал, при этом Оренбургский и Омский очаги контрреволюции окажутся разделены, а эсеровский мятежи будут подавлены. Однако по масштабу задействованных сил Восточный фронт Гражданской войны и Восточный фронт Первой мировой совершенно несопоставимы немцы и австрийцы располагали силами свыше 80 дивизий. Россия могла наносить поражения Австро-Венгрии и Турции, поскольку примерно соответствовала их усреднённому уровню развития Петербург не уступит Вене, но Средняя Азия тогда столь же отсталой как и большая часть Османской империи но превосходила их численно. Однако германская промышленность превосходила русскую примерно в 4 раз, а совокупное население четверного блока примерно соответствовало населению Российской империи, особенно если вычесть оккупированные к началу 1917 года территории. Победить Германию и её союзников силой как в Великую Отечественную в Первую Мировую Россия не могла. Можно было бы попытаться «досидеть до победы». При наличии Восточного фронта Германия сломалась бы раньше, но ненамного – немцы не смогли полностью вывести войска с восточного фронта до самого перемирия, а значит, продолжение боевых действий на русском театре связало бы несколько больше дивизий, но принципиально не повлияло бы на положение других фронтов. Кроме того, досидеть до победы« можно было лишь в отсутствие Февраля, поскольку смена власти в ходе войны в высокой вероятностью вела к разрушению государственности. С другой стороны, перенос революции «на после победы» мог привести к фашизации России по итальянскому сценарию. И вообще Россия без Октября хоть с монархией, хоть с республикой была бы обречена на латиноамериканский путь зависимого развития. Сложно сказать насколько сдвиг Февраля мог бы сорвать Октябрь. Перенос февральских событий на год, мог бы синхронизировать русскую революцию с немецкой, а мог бы остановить радикализацию масс иллюзией победы, плоды которой получила бы буржуазия, причем иностранная. Скорее всего, набрав влияние в 1916 году, буржуазные элиты сами не смогли бы терпеть так долго. Россия начала сыпаться куда раньше, чем Германия, практически в середине войны – спустя 30 месяцев после её начала и за 20 месяцев до её окончания. Революционное оборончество тоже не было выходом – на этом погорел Керенский, который воодушевлял войска красивыми речами не хуже магического дара комбрига Чура, однако попытка наступления в 1917 закончилась окончательной деморализацией. Как могли большевики победить немцев в 1918-м? Только чудом – использование нервно-паралитических БОВ из будущего по-другому интерпретировать нельзя. При этом химическое оружие массово применялось именно в Первой Мировой и не принесло ничего, кроме лишних жертв. Иными словами, даже в рамках фантастического допущения попытка остановить противника применением ОМП не гарантирует успеха. Таким образом, ответ на основной вопрос эпопеи – могла ли Советская Россия оказаться в числе держав-победительниц версальской системы – скорее отрицательный.
Желание избежать «похабного мира» вполне понятно, однако влияет ли оно на сюжет? Каждому из трех томов соответствует три ключевых эпизода. В первом томе партизанский рейд батальона Чура приводит к гибели Дроздовского и предотвращает захват Таганрога и Ростова. Во втором томе диверсионная операция срывает захват Крыма украинскими националистами и немецкими оккупантами. Третий том завершается освобождением Одессы. События, послужившие основой для первых двух томов – это реальные исторические развилки, поскольку возможность удержать линию демаркации у красных имелась. Иной, более позитивный для красных, исход этих бифуркаций имел бы далеко идущие последствия. Провал перехода бригады Дроздовского с Румынского фронта на Дон мог бы повлечь за собой поражение белых во втором кубанском походе, лишив их одной из трех пехотных дивизий или четвертой-пятой части сил. Удержание Крыма позволило бы сохранить Черноморский флот, а значит контролировать морские коммуникации и исключить существенную связь контрреволюционных сил с заграницей. В этом случае окончательное поражение белых сил на Кубани было возможно уже летом 1918 года. В книге так и происходит, хотя в деталях это не показано Деникин фактически сдался без боя в результате неких «переговоров». Почему другие лидеры белого движения не воспротивились этим переговорам и для чего Антон Иванович на них вообще пошел неясно. У Деникина сложилась репутация патриота России, потому что он не поддержал Гитлера, однако первопричиной могло оказаться лишь то, что Деникин оставался верным клиентом Антанты, англо-французского альянса старых колониальных держав, потерпевших поражение в ходе Второй Мировой и сохранивший формальный статус победителей лишь потому, что это устраивала США и СССР. По крайней мере после окончания Второй Мировой Антон Иванович проявлял поразительную, но в этом свете вполне закономерную, политическую близорукость, полагая что будущий агрессивный блок НАТО, основной военный инструмент мирового империализма, не угрожает СССР.. Предположение, что без брестского мира идея «вместе с большевиками бить немцев» воодушевит белых офицеров не выглядит достаточно обоснованной. Продолжение боевых действий не отменяет факта геополитического коллапса Российской империи, запущенного как минимум Февральской революций, а в конечном итоге самим фактом участия в мировой войне страны с крайне неравномерным развитием. Поэтому для белого офицерства естественным средством победы над Германией выступало установление военной диктатуры, довольно скоро превратившееся в самоцель. В свете вышесказанного таймлайн событий третьего тома представляется несколько схематичным. Бригада морской пехоты Балтфлота под командованием Чура действует вдоль побережья Черного моря, что вполне логично, однако «попаданчество» это не более чем литературный прием, позволяющий раскрыть внутренние связи между историческими событиями. Целый ряд ключевых событий 1918 года оказались вне зоны внимания автора и его персонажа. Помимо уже упомянутого второго кубанского похода, определившего судьбу белого движения на юге России, не меньшее значение имели бои за Царицын и вообще события на среднем Дону и в Донбассе. Где проходила линия фронта к северу от Ростова, точнее, где она вообще проходила в альтернативной версии истории совершено неясно. Иными словами, «похабный мир» как он был в реальности не противоречит описываем событиям, а альтернатива более быстрого заключения временного мира с меньшими потерями, еще более улучшает баланс, в частности позволяет сохранить Донбасс.
Донбасс был третьим по значению промышленным районом Российской империи после столичных Петроградского и Московского, сосредотачивая при это 80% добычи угля и выплавки стали в то время. Поэтому контроль над Донбассом был одним из ключевых вопросов Гражданской войны и не только её, как показала последующая история. Но помимо трех индустриальных районов Восточно-Европейской равнины, был еще и четвертый в Закавказье Баку, обеспечивающий 80% нефтедобычи Российской империи. Выживание Бакинской коммуны, особенно при удержании коммуникаций по Волге, существенно облегчило бы положение молодой Советской республики. При труднообъяснимом без мира с Германией летнем(!) затишье на других фронтах, переброска бригады морской пехоты для усиления обороны Баку, выглядит более чем логичной. Правда, в политическом отношении урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в многонациональном городе задача более сложная, чем установление советской власти в Одессе.
Ход Гражданской войны определялся не только военными событиями, но и политическими. В июле 1918 V съезд советов принял конституцию РСФСР. Тогда же эсеровские выступление привели к окончательному установлению однопартийной системы в России. Социалистическая модернизация не может осуществляться без политического субъекта, коим и была коммунистическая партия. А значит, переход к однопартийности был почти неизбежен, и вопрос был лишь в способе этого перехода. Альтернативой борьбе за власть внутри революционного лагеря могла бы быть та или иная форма институционального разрешения политических разногласий в виде объединительного съезда и выработки новой программы, ставящей во главу угла не достигнутое свержение старого строя, а построение нового общества. Однако, если эти события где-то и происходит, то Чур в них не участвует. Затор бравый комбат, пока еще не комбриг, участвует в разгроме «военной оппозиции», хотя в реальной истории «военная оппозиция», будучи именно оппозицией на партийную линию строительства регулярной Красной Армии, принятую еще 23 февраля, существенно повлиять не смогла и поддержки на партийном съезде не получила. При этом, с одной стороны, далеко не все бывшие офицеры, поступившие на службу в Красную Армию оправдывали доверия, а с другой стороны, «партизанщина» потому и «партизанщина», что у неё нет центрального штаба, который можно обезвредить, и искоренять её приходится кропотливой работой на местах. Таким образом, послезнание используется не вполне рационально – не имеет смысла переигрывать те ходы, где особых ошибок не было, упуская при этом из виду более важные развилки, где решения принимались не лучшим образом. А еще более важно не добавлять новых ошибок. Так, необоснованный отказ от интеграции тех или иных территорий при наличии объективных экономико-географических возможностей такой интеграции не решает проблему национализма, и лишь усугубляет её. Уродливые национализмы межвоенной Европы привели к трагедии Второй мировой. Социалистическая модернизация позволяет сформировать надэтническую нацию в границах централизованного федеративного государства на территории Российской империи и органически прилегающих областей и купировать риски угнетения по национальному признаку в интеграционном процессе. Успех революции в Германии и бывшей Австро-Венгрии мог бы открыть перспективу для объединения более высокого уровня, то могло бы навсегда исключить войну в Европе.
В заключение рецензии хотелось бы выразить надежду, что последующие тома эпопеи будут не менее интересными, чем предыдущие и автор не побоится сформулировать смелый, но при этом обоснованный сценарий альтернативного развития мира в начале XXвека.