Рецензия на повесть «Злой вонючий гоблин»
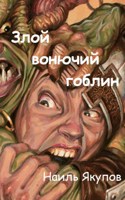
Для начала назовем три имени: Набоков, Сорокин и Филип Дик.
У первого выделим характерное для его «русского метаромана» (определение Ерофеева) отношение к миру как к бутафории, декорациям, на фоне которых происходят авантюры главного героя (ощущение неподлинности окружающего пространства приходит от изгнанничества: все ложно, что не дом).
Второго иные критики называют воинствующим гностиком, и неспроста: хотя Сорокин – христианин, самые тяжелые моменты его книг отчетливо связаны с неприятием разрушающегося, тленного мира, полного бессмысленной жестокости.
Третий, хотя и проходит по другому ведомству (разумеется, возражения на этот счет Лема нельзя оставлять без внимания, см. «Мой взгляд на литературу»), но сквозным образом Черной Железной Тюрьмы, проходящим через всю серьезную часть наследия, и постоянным сомнением в реальности вполне родственен первым двум.
Итак, у трех названных писателей – у Набокова, конечно, отчасти, ибо он, как подметил Ерофеев, сознательно закрыл себе выход в трансцендентное – имеется общая проблематика, которая связана с восприятием реальности как неподлинной, низшей, «падшей» и поиском или выхода из нее, или способа существования, при котором достигается просветление или героическое принятие. Последнее – достояние Филипа Дика (см. например, «Лабиринт смерти»); «Я» Цинцинната Ц. из «Приглашения на казнь» оказывается сильнее топора палача, и он уходит прочь, туда, где слышны голоса людей, подобных ему; герои «Сердец четырех» ложатся под давильные прессы, выходя за пределы литературы и возвращаясь в материнское лоно (тема «жидкой матери»). И если один и тот же мотив появляется в модернистском, постмодернистском и фантастическом текстах, закономерно было бы обнаружить нечто подобное и в нашем многострадальном фэнтези, где поиск выхода из сгустившейся, прямо-таки осточертевшей фабулы, душного, сапогами истоптанного романного пространства – не просто каприз, но насущная необходимость.
Передо мной – «Злой вонючий гоблин», книга Наиля Якупова, которая работает с данной темой в рамках жанра фэнтези. Передо мной – значит, не только перед умственным взором, но и перед физическим: книга выпущена на бумаге и продается в магазинах Москвы (перед тем, как написать эту рецензию, я ее приобрел).
Всякий текст начинается с героя, и немало фэнтезийных текстов стараются создать привлекательный образ, достоинствами это достигается или недостатками. Здесь дело обстоит иначе: прилагательные «злой» и «вонючий», вынесенные в название, являются по отношению к гоблину Курлусу единственно необходимыми, да и, пожалуй, единственно возможными: он, будучи героем «гностического романа», характеризуется не тем, кто он есть и какие поступки совершает, а исключительно своей Целью.
Рассмотрим эту Цель. Коль скоро материальный мир – порочный, падший, ненастоящий, пребывающий во зле, чем следует заниматься в нем герою, какие задачи он может здесь перед собой ставить?
Богатство? Это прах, который всего-навсего позволит на время забыть об убожестве собственного положения
Власть? Кого и над кем – одного падшего создания над другим?
Могущество? Для чего оно здесь – для преображения мира? Но мир не исправить, ибо он порочен онтологически.
Любовь и продолжение рода? Но между падшими созданиями не может быть истинной любви, а рождать детей – значит, продолжать круговорот зла и невежества.
Таким образом, единственной достойной задачей для существа, пребывающего в этом мире и осознающем его ущербность, является освобождение от его оков: просветление, исход в иную, высшую реальность или вознесение, материальная трансформа, переводящая героя в качественно новое состояние.
Именно эту цель и преследует главный герой книги: в отличие от прочих обитателей мира, занятых собственными делами, он осознает «падшесть» своей реальности и стремится к выходу из нее, к преодолению пределов. Цель затмевает все: Курлус отчужден от мира, он больше не часть своего народа, не сопереживает тем, кто попадается ему на пути, и не задумывается о них. Судьба империй, людей – мужчин и женщин – не имеет никакого значения, страсти и устремления бессмысленны, для гоблина они – или подспорье, или помеха на пути к заветной долине Истиглал, где его ожидает освобождение. Это, безусловно, роднит его с героями сорокинских «Сердец четырех», хотя гоблин отстоит от мира еще дальше: если Ребров, Сережа, Ольга и Штаубе еще предаются порой простым человеческим радостям, не упуская, правда, за всем этим главного – того, что напророчила раскладка по знедо – гоблин позволяет себе расслабиться один единственный раз, незадолго до финала, и эта передышка не самым удачным образом – с чисто технической точки зрения – выявляет неустранимый игровой элемент текста: психеделический трип под трек Синатры выводит нас за границу книги, напоминая о том, что это всего лишь буквы на бумаге – а, между тем, эффект был бы сильнее, обойдись автор внутриповествовательными образами.
Названия глав подчинены скрепляющей текст тематике грибов, и в каждой такой главе Курлус делает еще один шаг навстречу Цели – добывает ингредиент для шаманского зелья, необходимого для попадания в долину. Приключения его носят характер схематический, их задача – зафиксировать сам этап выполнения, а не вызвать сопереживание; скорее, можно сказать, что обстоятельства, в которых добывается заветный гриб – просто повод продемонстрировать «падшесть» мира, в котором происходит действие. Мир этот и вправду напоминает липкий и мокрый кошмар – мокрый в прямом смысле, ведь здесь постоянно идет дождь. С одной стороны, это постоянное напоминание о склизкой, водянистой природе наших тел – с другой, так подчеркивается общее гниение мира, его обреченность и проклятость.
Индивидуально ли это гниение, воспринимаем ли мы его в тексте романа, как трагедию? Нет, ни в малейшей степени. Таково его перманентное состояние, та норма, что раз за разом показывается нам в подтверждение правомерности действий героя. Все, что происходит здесь – копошение гоблинов, извращения волшебников, войны с прокаженными – все кричит: уходи, оставь эту яму с червями, возносись и освобождайся.
Хорошо сделано в романе сопоставление этой сырости мира-препятствия и сухости земли обетованной, долины Истиглал; с одной стороны, затянутое тучами, утопающее в дожде вечное гниение, с другой – залитая золотым солнечным светом каменистая равнина, где можно свободно лететь вперед вместе с ветром. Контраст весьма прост и, вместе с тем, оставляет простор для интерпретаций, ведь склизкость и гниение – суть признаки жизни и движения, в то время как сухость и пустота, напротив, апеллируют к безжизненности, неизменности, однообразию.
Здесь, надо отметить, Якупов угодил в любопытную ловушку, которая подстерегает всякого, кто хочет работать с подобной проблематикой средствами жанровой литературы. Дело в том, что в фэнтези автор выступает как бы проводником по условной Волшебной стране – так мы назовем мифопоэтическое пространство, не важно, уродливо оно или прекрасно – чья задача – продемонстрировать нам каждый камень, каждую травинку этого вторичного мира, убедить нас в том, что он реален, влюбить нас в него – повторимся, независимо от того, насколько этот мир красив или омерзителен – и эта особенность жанра, где мы сами выступаем демиургами, вступает в противоречие с задачей текста как истории о спасении из «падшего» мира.
В самом деле, все описания мерзостей, червей, прокаженных, волшебников, поедающих чужое дерьмо, отвратительных гоблинов (скатологическая тема в «гностических романах» никогда не подается в юмористическом ключе, как у Рабле) – разве не есть это невольное любование созданным миром, невольное исполнение роли проводника по Волшебной стране? Мир, разумеется, гнусен, однако описывается он вовсе не мимоходом, со всеми положенными деталями, в более или менее классическом стиле, без всякого «остраннения», которого следовало бы ожидать. Он должен быть разрушен, отвергнут, этот специально созданный ужасным мир, однако автору его все равно жаль, и это мешает ему находить нужные языковые средства для отображения отчужденности главного героя. Та задача, с которой Сорокин справился в «Ледовой трилогии», здесь осталась неразрешенной. Проблема эта, как я уже заметил, не авторская, а жанровая: фэнтези, миросозидающее по своей природе, плохо предназначено для критической авторевизии – в саморазрушении и самоотрицании оно просто не может быть так же убедительно, как мэйнстримный текст, достигающий более высокого уровня абстракции и не скованный условностями жанра.
В пути Курлус руководствуется изречениями своего учителя, и здесь в тексте задействуется психеделический пласт, вдохновленный Карлосом Кастанедой. Не будучи знатоком учения дона Хуана, я не могу сказать, насколько сильны здесь его идеи; по большей части, такая подкладка показалась мне дополнительным флером, украшением и приправой к линейному квесту повествования.
Чем завершается книга? Ужасы и мерзости продемонстрированы, гоблин собрал необходимые ингредиенты для своего зелья, обманул стража ворот в долину – кстати, здесь кастанедовский мотив, насколько я понимаю, находит свою финальную реализацию – влетает в заветное пространство в виде облака спор и, достигнув финальной точки, обращается… в гриб. Круг замкнулся, все началось с грибов, грибами и закончилось, тематика названий глав реализовалась целиком и полностью.
Как следует оценивать такую концовку? Традиционный читатель, разумеется, найдет ее издевательской, равно как и концовку «Сердец четырех». Однако она всего лишь закономерна, и это следует понимать: осознавая природу «гностического романа», то есть текста, повествующего об освобождении от уз материального мира, мы должны ждать строго определенного финала, вопрос в том, как этот финал реализован, какой он производит эффект, подавляющий (как в недавнем «Scorn»’e, или внушающий надежду).
Здесь я бы хотел наметить еще одну точку конфронтации задачи текста с избранным Якуповым жанром: дело в том, что в фэнтези, особенно массовом, трансцендентное давно уже имеет сниженную, легковесную природу. И автор, и читатель играют с богами, ангелами, демонами и пр. так легко и безответственно, словно это просто фишки в «Подземельях и драконах»; ни о каком уважении и трепете речи идти не может. В подобном ценностном вакууме мысль о высшем и подлинном мире, куда следует стремиться из мира падшего, воспринимается не проявлением духовной жизни, а идеей из серии о параллельных мирах, и таким образом происходит снижение проблематики, ее измельчание до технической, рутинной задачи. К сожалению, не избежал этого и «Злой вонючий гоблин»: трансценденция здесь выглядит сниженно, почти юмористически.
Но только почти. Отдадим Якупову должное – в финале он достаточно успешно балансирует на грани в волоске от скатывания в фэнтезийный юмористический китч. Более того, не одинок он и в выборе судьбы для персонажа: в финале диковского «Лабиринта смерти» один из героев встречается в реальном мире с божеством, которое, казалось бы, было всего лишь частью смоделированной компьютером фантомограммы - у этого божества герой просит, чтобы оно превратило его в растение. Почему так? Потому что он хочет спать и видеть сны, но при этом чувствовать над собой солнце и знать, что существует. Таким образом, «растительное» существование, превращение в гриб вовсе не является абсурдным, оно – тоже выход из ситуации, и выход ничуть не хуже других; кроме того, в финале «Злобного вонючего гоблина» мы неожиданно узнаем, что Курлус после превращения «избавился от усталости всей своей жизни», и эта фраза, подготовленная не столько действиями героя, сколько угнетающей мерзостью материального мира, становится превосходным финальным гвоздем, вбитым в лоб читателю. Освобождение от бремени; пожалуй, важнейшая из современных тем.
Как следует оценивать эту книгу? Разумеется, не по меркам фэнтези: для этого ей недостает изощренной фабулы – сюжетно это простой квест с движением от А до Я. Герменевтическая литература, пожалуй, искоса взглянет на то, что в ней так важно для фэнтези, литературы низкой: на попытку сделать вторичный мир достоверным, зримым и выпуклым. Я же, как человек, стоящий посередине, на ничейной земле – или на моей собственной? о, дайте мне гербовую бумагу, где написано, что это – моя земля – скажу следующее: «Злой вонючий гоблин», как и положено достойному «гностическому роману» - с поправкой на фэнтезийность – оставляет после себя чувство освобождения и легкости, такое же, как и у главного героя. Падший мир отброшен, усталость преодолена, впереди – спокойствие, радость и ясность. И потому я, прежде всего, предлагаю видеть в этой книге попытку человека, запертого в тюрьме самиздата, жанровой литературы и убогих читательских предпочтений, разрушить эту ненавистную клетку и обрести, наконец, желаемую свободу.
В этом смысле авторское намерение тождественно самому тексту, а что есть творческая удача как не подобное единение замысла и реализации?
