Рецензия на повесть «Шериф Ноттингемский»
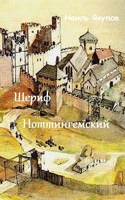
Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в одно популярное место. Но обещания надо выполнять, дабы не портить карму… или наоборот, чтобы добить то, что от неё таки осталось, ибо произведение это не из тех, что я выбрала бы добровольно для развлекательного или познавательного чтения. Причин этому не одна – не только «Трэш», указанный среди тэгов, но также и то, что история Робина Гуда почему-то меня никогда особенно не интересовала. Но поскольку выяснилось, что я раздаю обещания с преступной лёгкостью, рецензии придётся быть. И будет она, согласно пожеланиям автора, очень честной, пусть и субъективной.
Сразу должна предупредить, что я не историк и не стану ковыряться в несоответствии деталей повествования историческому периоду. Предыдущие семь рецензий не читала, чтобы иметь возможность составить собственное мнение. Также обращаю внимание на наличие спойлеров в тексте рецензии.
Итак, Робин Гуд… Чтобы получить сводную информацию по герою, обратимся к Википедии.
Робин Гуд (Робин Худ) – герой английского средневекового фольклора, великолепный стрелок из лука, предводитель разбойников, действовавший со своей шайкой в Шервудском лесу близ Ноттингема. Особенностью преступной деятельности удивительного разбойника и его людей являлась идея благородства – они нападали на богатых, отдавая награбленное бедным. Историческую подоплеку исследовать не буду, так как споры о том, кем был Робин Гуд и в какое точно время жил, до сих пор ведутся. По различным версиям это мог быть как высокопоставленный дворянин, несправедливо лишённый наследства, так и землевладелец, пострадавший от произвола властей, либо мелкий дворянин, скрывавшийся в лесу после казни своего господина. Предполагаемый временной промежуток – XIII век, но в исследованиях фигурируют также XII и XIV вв.
По популярности Робин Гуд сопоставим с Королём Артуром. И тот, и другой давно переросли уровень народного эпоса и превратились в культовые фигуры в искусстве. Так, например, по мотивам легенды о Робине Гуде написано не менее двух десятков книг, снято более двадцати фильмов и свыше десятка сериалов. Это не считая мультсериалов, компьютерных игр и музыкальных произведений. Также стоит отметить, что имя его давно превратилось в нарицательное и используется как синоним к словосочетанию «благородный преступник».
Прошу извинить за долгое вступление, считаю, что сведения эти несомненно пригодятся. Но перейду непосредственно к отзыву, который сразу разделю на две части.
Объективное. Сюжет, стиль, язык.
Итак, повесть «Шериф Ноттингемский» Наиля Якупова не удивляет нас сюжетными ходами. Да, сюжет полностью соответствует традиционной версии легенды – Робин Гуд грабит богатых и отдает добычу бедным, Шериф его добросовестно ловит. Леди Мэрион является любовницей разбойника. В конце повести Робин всё-таки оказывается пойман, но чудесным образом избегает казни. Стиль повествования пародийно-анекдотический. Язык прост, местами даже наивен. Лексика стандартная, современная. Используются специфические слова (сержант, атаман), не свойственные времени и месту действия. Текст не перегружен описаниями, бэкграунд изображен схематически. То есть мы не найдём здесь живописных лесных пейзажей с поросшими мхом поваленными стволами деревьев и наперстянками или сказочного замка. Лес тут просто зелёный, а замок Ноттингем – каменный. Схематичность вообще является отличительной чертой истории – это касается и сюжета, и личностей героев, которые изображены грубыми штрихами. Отличительная черта каждого гротескно раздута и нарочито выпячена – Робин Гуд безумен, как Шляпник, Шериф любит родину и фанатично исполняет свой долг, леди Мэрион – знатная красавица, не обременённая моралью и мозгами. Брат Тук – монах-пьяница, предавший друга, Чёрный и Белый рыцари (Дрюма и Скотт – отсылки к Александру Дюма и Вальтеру Скотту, видимо) – охотники за завидной невестой. То есть положительные герои в повести отсутствуют, как вид. Даже Шериф, поначалу вызывающий симпатию рассудительностью и ответственностью на фоне откровенно инфантильного и нуждающегося в срочной госпитализации Робина Гуда, в конце истории, когда встал вопрос о сохранении жизни или следовании принципам, оказывается человеком серой морали. Мотивация персонажей в основном не раскрыта. Также отмечу, что круг действующих лиц сужен, многие герои оригинальной истории отсутствуют или опять же изображаются более чем схематично (громила лесник, полагаю, Малыш Джон?). Сюжет характеризуется линейностью. Повесть имеет открытый финал, Шериф погибает, судьбы других действующих лиц неизвестны.
Текст имеет сомнительную художественную ценность. На протяжении всей истории могу отметить единственный авторский прием, привлекший внимание и вызвавший даже некоторое восхищение. Это образный ряд, живописующий весьма умозрительную и далёкую от реальности любовь Шерифа к Англии, сопровождающий его размышления, сомнения и беспокойство о судьбе страны. Интересна здесь динамика образов по мере развития сюжета. По-настоящему привлекательный ход, весьма обогащающий скудное повествование. Цитирую в порядке очерёдности.
...Шериф задумался, погружаясь в мыслительный процесс. Перед его глазами предстала картина сельской идиллии – родные луга с тучными коровами, поля пшеницы и счастливые лица крестьян...
...Он погрузился в раздумья. Перед его глазами снова возникали тучные стада коров, поля пшеницы и лица крестьян, которые уже не казались такими счастливыми...
...Всё чаще перед его глазами всплывали картины, в которых были сельские пейзажи. Только с каждым разом они становились страшней. Коровы всё ещё были тучные и добротные, а вот в полях начинался пожар. Что до крестьян, они смотрели пустыми глазницами трупных лиц....
...Он попытался уснуть. Но вместо этого погрузился в бред. Ему чудилось словно тучные коровы бродят на пепелищах когда-то золотистых полей и поедают человеческие трупы с пустыми глазницами. Слышался плачь детей и колокольный набат. Англия была опустошена...
...Перед его глазами всплывала старая картина. Пышные коровы, широкие заливные луга и радостные лица крестьян. Всё это тут же сменилось на отвратительные явления. Люди и коровы гнили на пепелище от сгоревших посевов. В их телах копошились личинки. Шериф застонал в ужасе...
...Служитель порядка умирал с улыбкой на лице. Ему снова явился идеалистический пейзаж. Тучные коровы, поля, полные золотистой пшеницы, и радостные лица людей...
Удивительным образом история обладает достоверностью. Не исторической, конечно, общей. Имеет право на жизнь, как гипотеза. Поскольку людская память избирательна, и за прошедшие века образ Робина Гуда совершенно точно оброс положительными чертами, имевшие место быть события и мотивы приукрасились, превратив те далёкие события в сказочную эпопею благородного разбойника.
Вот всё, собственно, что могу сказать о повести в подобном разборе. Перейдем ко второй логической части рецензии, а именно…
Субъективное. О жанровой принадлежности, адресации и смысловом значении.
Ну, что плохого, казалось бы, в очередной пародийной интерпретации знаменитой истории? Подобные попытки и раньше предпринимались, ничего дурного в этом нет. Тем не менее, я потратила кучу времени на осмысление, чтобы понять, что же мне так не нравится в этой современной версии средневекового приключенческого экшена.
Итак, жанр. Трэш (trash англ.) в буквальном переводе означает мусор, отбросы, хлам, макулатура. Как жанр означает искусную стилизацию под плохую литературу, когда написано настолько плохо, что даже и хорошо, и призван послужить своеобразным мостиком между массовым искусством и искусством элитарным. По мнению исследователей, в российской литературе пока имеется весьма ограниченное число произведений в данном жанре, достойно его представляющих и имеющих неоднозначную адресацию.
На мой неискушенный взгляд причина лежит в одной плоскости, но касается нескольких аспектов – это, безусловно, прямая, банальная и однозначная трактовка качеств жанра. По аспектам. Например, «мусор» воспринимается однозначно – как говно, простите. То есть, открывая произведение в жанре «Трэш», мы наверняка обнаружим там экскременты и процесс испражнения в подробностях. Имморализм (система взглядов, подразумевающая либо полное отрицание норм морали, либо концепцию гибкой морали, подгоняемой под конкретную ситуацию) присущий, жанру, будет сведён к животному сексу. «Написано настолько плохо, что хорошо» окажется просто плохо. При этом получается не комбинация трагического и комического, доброго и злого, великого и низменного, а однообразная каша из гипертрофированно грязного, больного и примитивного. То есть, отсутствует контраст. Дурное в тексте не оттеняет хорошее, грязь существует ради грязи. Но позвольте, мусор и отбросы – не только говно, мораль касается не только секса, стилизация под плохо написанное не значит – написано умышленно безграмотно. Необходимо искать в определениях трэша не прямой, но переносный смысл. А существующий подход упрощает жанр, выводит его произведения из категории литературы вообще. Понятно, что критерии здесь весьма условны, слишком тонка грань между графоманством и талантливой стилистически выверенной работой, но я возьму на себя такую смелость. Ибо как стилизации под наивное искусство, повести недостаёт искренности и простоты, заменённых автором на нарочитый примитивизм.
Автор позиционирует повесть «Шериф Ноттингемский» как произведение поп-культуры. То есть, он предполагает, что история привлекательна для масс (толпы). Не могу понять, почему массового читателя должна привлечь история, написанная умышленно примитивизированным языком пятиклассника, приправленная говном и животными совокуплениями (совокуплением обозван этот увлекательный процесс в тексте)? Почему «написано плохо» не может быть написано грамотно и интересно, обладать захватывающим сюжетом и нести многоуровневый, конструктивно значимый смысл и положительный посыл?
В русской литературе имеются примеры произведений с двойной кодировкой, нацеленные на разные уровни восприятия, ставшие действительно явлениями массовой культуры в силу своей привлекательности для широкой публики. Они разобраны на цитаты, по ним снимают фильмы и сериалы, в то же время искушённый и сведущий читатель найдет иные смыслы такого произведения. Одно из них - «Мастер и Маргарита» Булгакова, например.
Но, казалось бы, почему бы не отнести исследуемую повесть к области экспериментов пытливого автора, не списать на забавную шалость? Потому что, к сожалению, это не шалость.
При всей своей анекдотичности, повесть имеет весьма недобрый, даже издевательский подтекст. В ней не высмеиваются качества, достойные порицания, в ней трэшуются лучшие человеческие чувства, ставится под сомнение их существование вообще: чувство любви – Робин Гуд и леди Мэрион прилюдно совокупляются (в оригинальной версии героев связывало чувство) возле трупов казнённых разбойников; чувство сострадания к страждущим, доброта и благородство – Робин Гуд в истории не негодяй, он совершенно невменяемый, больной юноша, собственноручно выкалывающий глаза мнимому предателю, бедным он помогает в силу некоего безумного расчёта (в оригинальной версии Робин Гуд добр и благороден сознательно и по убеждению); чувство дружбы - предатель Тук, сдавший главаря в обмен на обещание Божьего прощения; чувство любви к своей стране и верности долгу – трагическая для Шерифа концовка с казнью без суда и следствия, когда он был банально зарезан впопыхах (в оригинальной версии Шериф персонаж отрицательный, здесь проведена некоторая подмена качеств героев). Прямой вывод, сделанный автором в конце истории - «Настоящую историю творят смелые безумцы», можно бесконечно дополнять. Так, предположу, что читателю хотели рассказать и показать общее падение нравов (чьих только, неясно), бессмысленность и тщету устремлений, а также намекнуть на что-то вроде «Нет пророка в своем отечестве», наглядно демонстрируя изменчивую природу власти – сегодня ты представитель закона, наделенный полномочиями, а завтра неугодный лишний человек. Не удивлюсь, если при более тщательном анализе вскроется современный политический контекст по состоянию на момент написания повести, поскольку политика присутствует в сфере интересов автора. Также здесь можно провести некую грубую аналогию с русскими сказками об Иванушке-дурачке. Но, в отличие от сказок, где главным героем является некий молодой человек с нестандартным по меркам местного населения мышлением, чудесным образом выходящий живым, здоровым и с некой выгодой из всех перипетий, а добро всегда торжествует, здесь у нас побеждает несправедливость и безумие. И на фоне этой всеобщей деградации сумасшедший Робин Гуд, освобожденный для дальнейших подвигов и исторических свершений, отбывает в закат. Шериф мёртв (заколот кинжалом), ловить бандита некому и незачем. Finita la commedia. Занавес.
Итак, что это было? Реализм, где добро торжествует уж точно не всегда – безусловно, да. Произведение массовой культуры – точно нет, поскольку истории недостает публичной привлекательности.
Резюме. К прочтению рекомендую, ибо жанр стоит изучения. Замечу также, что элементы трэша в литературе используются часто для придания произведению достоверности и смысловой наполненности. Не уверена, что всегда это происходит умышленно, тем не менее, продуманный уместный трэш всегда историю украшает.
