Рецензия на повесть «Когнитивная симфония»
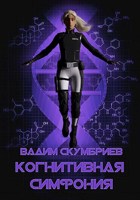
Добротная фантастика, которую приятно читать. Как это говорится — «в лучших традициях»: обоснуй, экшен, характеры — всё на месте. Герой медленно, но верно движется к хэппи-энду. Но лично меня книга затронула вовсе не этим. Ворох философских вопросов, заданных будто бы мимоходом — иной читатель и вовсе не заметит их, в то время, как меня они приковывали, заставляли отложить книгу на минуту, посмотреть куда-нибудь в небо и сказать: «А действительно!»
Первый вопрос, который задал мне автор — о человечности. Терпит крушение поисковый катер, выживают двое: Андрей (командир) и Рашель (ординатор). Вдалеке на этой недружелюбной планете мигает красный маячок. Неизвестно, есть ли там люди, или этот маяк много лет назад оставлен другими исследователями, но Андрей цепляется за шанс. Рашель говорит, что вдвоем они погибнут, но Андрей не желает идти в одиночку, бросив её: «Сам погибай, а товарища выручай». В этом моменте нет голливудской прилизанности — всплывает в уме стереотипное и истерически обреченное «Брось меня! Иди один!» — «Не брошу!» (где, вопреки логике, выживут двое) — нет, Рашель, как ординатор, сообщает Андрею шансы выжить выжить буднично, словно прогноз погоды. И отношение к ординатору у Андрея неоднозначное, то ли человек, то ли счетная машина в человеческом обличье, но он чувствует себя обязанным спасти её.
К какому итогу приходит конфликт? Рашель, нацарапав на аптечке слова Андрея («Сам погибай, а товарища выручай»), перетягивает себе горло жгутом и умирает, пока Андрей спит. В этом философская дилемма: был ли поступок ординатора — человечным? С одной стороны, Рашель принесла себя в жертву, что может считаться верхом альтруизма. С другой — Рашель руководствовалась цифрами, шансами, вероятностями, словно компьютер, запустивший алгоритм и рассчитавший необходимость своей смерти в результате. Я для себя решил, что в поступке ординатора нет человечности; хоть он и выглядит таковым.
Итак, Андрей выживает и добирается до колонии на Клэр, изолировавшейся от остальной вселенной, словно средневековая Япония. Правда, в отличие от Японии, жители Клэр ещё и успешно скрывают своё существование от всего мира. Общественное устройство в колонии подбрасывает всё новую пищу для ума, изящно и фоном, случайными разговорами:
— А... как же, ну, это, — он тщетно попытался придать голосу твёрдость, — семьи?
— Семьи?
— Ну, когда два человека живут вместе и у них появляются дети...
— У нас такого нет. Два человека могут оформить союз и сдать генетический материал, но детей воспитывают специалисты. То есть воспитывали.
— И вы никогда не знали своих родителей?
— А это обязательно? — удивилась Соль. — Зачем? С какой стати человек, не разбирающийся в педагогике, сумеет воспитать ребёнка правильно?
Или, например, генная модификация До, идеального солдата:
— Мы нашли в мозгу нейросети, отвечающие за подчинение, и усилили этот эффект. Разумеется, это не абсолютное решение. Разумеется, потребуется правильное воспитание рекрута с самого детства для полноценного эффекта. Коррекция также не заставляет солдат бездумно исполнять приказы. Они просто меньше сомневаются в авторитете командира, и всё.
Этично ли это? Если бы из человека сделали бездумную машину для убийств, бойцовскую собаку, бездумно вгрызающуся в глотку тому, на кого укажет хозяин, я бы сказал — «неэтично». Но ситуация такая скользкая, серединка на половинку. «Они просто меньше сомневаются, и всё». Хотел бы я родиться идеальным солдатом? Конечно же, нет. Но, с другой стороны, разве не всё ли горе — от ума? Не счастливее ли До, чем, например, её сёстры с другими модификациями? И в то же время она не выглядит слишком довольной своей жизнью, особенно, когда узнаёт о своём секрете. А была бы она довольнее, если бы модификация заставляла не просто «чуть меньше сомневаться», а давала почти беспрекословное подчинение, как у хорошо дрессированной собаки?
Ну а встреча с ординатором-музыкантом — вишенка на всём этом когнитивном торте. Если картина или мелодия могут быть созданы в ходе расчёта, то могут ли они считаться произведениями искусства? Творчество есть эмоциональное переосмысление собственного опыта, но ординатор неспособен испытывать эмоции. А потенциальный слушатель и не узнает, кем была написана музыка, «человеком» или «компьютером», но получит от неё удовольствие... Тогда что такое — творчество? Что такое — искусство? Старые определения были созданы, когда настолько мощным искусственным интеллектом и не пахло, но мы уже приблизились к порогу. Автор обещает более подробно раскрыть тему в третьей части, и я с нетерпением этого жду.
К сожалению, Андрей, оказавшийся на Клэр каким-то вечным заложником, взаимодействует с малым количеством людей; и это не даёт в полной мере насладиться специфическим социумом закрытой планеты. Сюжет концентрируется вокруг борьбы официального правительства и подполья, которое словно само не знает, чего оно хочет, потому что кроме порядков Клэр ничего и не видело. Открыть ресторан? Ресторан — это что-то незнакомое, далёкое, притягательное, признак другого общества (а чужая трава, как известно, зеленее)... Мило и наивно. «Открыть» планету, то есть, для посещения и наоборот — а не станет ли хуже? Вот, на Фрейе, про которую мы читали в первой части, разве что ядерное оружие ещё не начали клепать.
Событийный ряд показался мне немного суматошным, неизменно сводящимся к тому, что Андрей приходит домой, и тут же его вытаскивают из жилища то «левые», то «правые», куда-то везут, допрашивают, а потом он возвращается домой, чтобы снова быть выдернутым — слишком уж большой переполох принёс пришелец на Клэр.
Жителей Клэр одолевала скука. Непонятная, трудновыразимая тоска. Если бы не было этого дурацкого подполья, пытающегося изобразить оппозицию, то вообще хоть на стенку лезь. Ни соревновательной борьбы, ни творчества. Так просто исторически сложилось... И вновь на сцену выходит тема, заданная ещё в первой части: не является ли борьба одним из катализаторов развития общества? Для отдельно взятого его члена война — нечто разрушительное, жестокое, ужасное. А для общества целиком? Жителям Фрейи уж точно «не скучно», они не стагнировались, как Клэр. На последней хотя бы терраформирование идёт полным ходом; но что с того? Даже детей новых перестали рождать, ведь остальные горожане долго живут и справляются с текущими функциями.
Во всем этом вновь видится мне образ автора, намекающего на опасность закостенелого консерватизма, одновременно с тем будто бы страшащегося бурных эмоций, людей, чьё кредо «думать неправильно» — и в то же время посматривающего на них осторожно, с интересом исследователя, задающего вопрос — нужна ли творчества какая-то эта ваша душа... Мне, например, нужна; оттого возникает молчаливый спор с книгой. Я это люблю, в смысле, дискутировать с книгой и междустрочной её манифестацией разумности и атеизма, читать её доводы, взвешивать, задавать себе вопросы и искать на них ответы, а не с ужасом хвататься за голову от дичи, которую пытаются втереть иные опусы под видом философии.
Спасибо, Вадим! Пиши ещё.
