Рецензия на роман «Книжник»

Сложно писать отзывы на знакомых: с одной стороны, врать нехорошо, а с другой – честная реплика чревата пересмотром отношений. Впрочем, здесь не тот случай, к тому же автор сама напросилась.
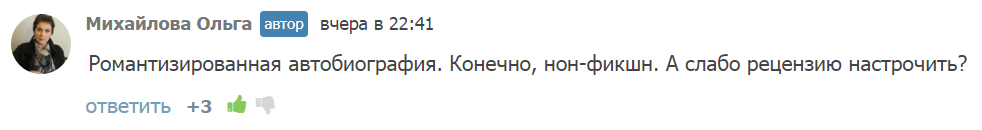
Ладно, так тому и быть.
Это не первая книга Ольги Михайловой, с которой я ознакомился, поэтому чуток предыстории. Из того, что я прочитал ранее, мне очень нравились литературоведческие труды и совершенно не заходили исторические детективы – то есть вообще не заходили: напыщенные и искусственные какие-то. Я осилил до конца единственный, а второй бросил почти сразу. А вот статьи о классиках русской и зарубежной литературы читал и перечитывал с огромным удовольствием. Но если статьи были обернуты в фантик художественного произведения (попадалось и такое), уже нет: обертка категорически не нравилась.
В общем, я считал Михайлову блистательным публицистом-филологом (в таком качестве некогда пригласил в жюри «Буйной фантазии») и посредственным прозаиком. Но теперь, после прочтения «Книжника», вынужден пересмотреть мнение: жизнь оказалась несколько сложнее, чем мне представлялось, а Ольга – гораздо более многоплановым писателем, чем можно судить по ее скучнейшим костюмным опусам. И все из-за «Книжника».
Если формально, это история жизни филолога, на протяжении где-то тридцати лет: от студенческой общаги до возраста, в котором обычно достигается житейская мудрость. Сюжет как таковой отсутствует: в смысле, цельная интрига с завязкой, кульминацией и развязкой. События происходят, но как чисто внешнее и неприметное проявление материальности бытия. К примеру… Ну, скажем, герой всю жизнь работает – по специальности, надо полагать, – в каком-то учреждении и даже дослуживается до почетной должности заместителя директора, но автор так и не сообщает, что это за учреждение. А какая разница? Зарплата капает, на жизнь хватает с избытком, но это же не главное, верно? Главное – поиск истины, смысла жизни, Бога и т.п., именно этим герой и занят на протяжении всего романа.
Иначе говоря, жизнь героя не материальна, а духовна. И выражается эта духовность в первую очередь в чтении книг и размышлениях – собственно, как и полагается филологу. Именно в этой сокровищнице человеческого духа запрятаны идеи, только и дающие возможность существовать. Герой всю жизнь путешествует по книгам, идеям и их носителям, что и составляет предмет художественного исследования. Люди материального плана мечтают о покупке квартиры или нового автомобиля, но есть и другие, не столь меркантильные, – к ним наш герой и относится.
Такого – чтобы акценты были смещены с материальных примет на духовный поиск, вообще вне привязки к материальному – я не припоминаю. Во всяком случае в русской литературе. Плюс прямое попадание в меня лично: опять-таки не каких-то внешних ситуаций, а именно отношения к жизни – например, дружбы с сокурсниками. Вроде бы ничего совпадающего в приметах, но взгляд одинаковый.
Похвала духовности звучит патетично – боюсь, даже глупо. Но книга не такова: не о единорогах, какающих радугой, а о мятущемся и ищущем человеческом духе. К тому же, помимо размышлений о литературе, имеются сценки вполне натуралистичные и смачно написанные, – например, со студенческой оргией, или сокурсником в гробу, или трупами в ущелье. Так что материального в романе – как и в жизни – с избытком, только оно не является главенствующим, вот в чем прикол.
Весьма любопытно гендерное смещение. Профессии героя и автора совпадают – несложно догадаться, что задействованы автобиографические мотивы. Собственно, Ольга и не скрывает, в комментариях называя «Книжника» романтизированной автобиографией. Романтизированной – потому что не все можно доверить бумаге, понимаю. Но почему герой мужчина, а не женщина? А, неважно... В любом случае протагонист получился неплохо: аура «психологической эмуляции» чувствуется, но настолько легкая, что я даже затрудняюсь ее сформулировать.
Наверное, у меня с Ольгой ментальности близкие – правда, она профессиональный филолог, здесь мне с ней не тягаться. Хотя я тоже люблю литературу, но что такое четвертый пэон, подзабыл (кажется, и определить в русской силлабо-тонике не смогу): сейчас для меня это строчка из Анненского. А Ольга знает.
В общем, филологи отжигают (как заметил прохожий, наблюдая, как на балконе филологического общежития долбят девчонку… Эпизод из романа, если что). Здесь даже стихи Михайловой – которые, признаться, не производят никакого впечатления, будучи опубликованы отдельно, – оказываются удивительно к месту. Героя никто же гениальным поэтом не считает? Не считает, и он сам на поэтические лавры не претендует. А что касается принадлежности текстов филологическому перу, тут сомнений не возникает. Зато стихи бездарного поэта и антагониста имитированы замечательно: я хохотал.
Чего в романе не хватает? Прежде всего, финального катарсиса: концовка смятая и небрежная. Также необязательны некоторые чисто литературоведческие вставки (ближе к концу, когда сплошняком идут оценки некоторых классиков) – можно было поискуснее сработать. Но общей картины они не портят.
В целом, отличная и запоминающаяся работа, по моим критериям: пришлось даже включить ее в подборку любимых произведений. Выделяется необычностью характера главного героя, также авторского подхода к изложению биографии.
Что в итоге хочу сказать?
Многочисленные тома, которые мы производим за некороткую писательскую жизнь, не имеют значения. Остается немногое. Именно по этому немногому потомки – если рукописи повезет попасться в их пристрастные руки – будут судить о писателе. Сдается мне, у Михайловой этой везучей рукописью окажется «Книжник».
Молодец, Ольга!
