Рецензия на роман «Текст ухватил себя за хвост»
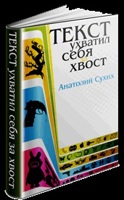
«... Может ли существовать треугольник, в котором все углы тупые? Самый тупой угол - тот, который главный...»
- Сначала угадывалась некая сатира на общество через геометрическую аллегорию, но потом автор явно решает углубиться в словесную мешанину.
Текст первой части явно перебарщивает повторами. Абзацы вязнут в этих повторах. Интеллектуальной подоплёки остаётся всё меньше, а повторов - всё больше и больше.
Вступительная часть только начинается, а уже напоминания про французский язык и тупых треугольников переходят все количественные границы к объёму абзаца. Но и за пределы одного абзаца повторы одних тех же слов следовать друг за дружкой не прекращают, а возвращаются вновь и вновь. Автор о французах вспоминает и дальше середины романа, наверное, чтобы оправдать их излишнее упоминание в начале: «...Наверное, еще и пишут, но к этому-то французикам не привыкать, их, как я полагаю, везде пишут, по всему миру пишут, где они появятся, там и пишут...». Но о середине этого романа говорить ещё преждевременно.
Автору, казалось бы, необходимо искать вариантность смыслов в конкретно выбранных словах для каждого нового абзаца и стараться увязывать все смыслы в границах одного абзаца. Так могла быть построена читабельная схема текста первой части романа.
«...Еще мне нравится слово ассистент. Сразу вспоминается Полунин. Надувной телефон - это великая сила, впрочем, как и всякое другое надувательство...»
- Вот ещё, чего не хватает автору, так это повторять уже понятное ему. Да, мы помним полунинское «асисяй», мы не тупые и всё поймём, и ещё кое-что помним из советского прошлого, но новому читателю и невдомёк. Зато про тупые углы, замечания Ирины и французов с их языком повторено как для тупых, а от этого интеллектуальность текста рассыпается. Автор ведёт разговор с читателем, но часто игнорирует и даже не уважительно себя ведёт с ним, затягивая и рассусоливая мысли хлипкие и второстепенные, а важные и нужные выпускает из виду, пренебрегая их объяснением. Не все жили столько, как сам автор, и знать все историко-культурные нюансы не способны. Исключением здесь могут быть фразы из фильмов или классических романов, которые живут уже сами по себе, теряя корни авторства.
На это автор, конечно, может процитировать самого себя из более ранней части романа: «...В этом-то романе как раз могут и незнакомые слова встретиться, но это совсем не страшно, потому что другой комплимент, который мне тоже понравился, заключался в том, что захотелось и сподвигло немедленно в словарь залезть...».
- Это может показаться полезным, но роман на то и будет хорош, что читатель его должен понимать без словаря, какой бы зауми в нём не таилось.
Герои в последующих частях романа вообще как в калейдоскопе: на них лишь смотришь и невозможно сопереживать, ведь кутерьма сменяющихся картинок повествования не позволяет вникать в характеры. Весь текст предназначен для довольствование игрой слов автора. Мы следим за его изворотливостью словотворца, а помнить образы его персонажей не успеваем. Да и персонажи больше похожи на разрисованные картонки без обильного упоминания обстановки. Автор как будто знакомит нас в первую очередь с самим собой, пытается показаться изящным в своём жонглировании смыслами и способностью умствования, что ли. Кое-где промелькают автобиографические строки. На это указывает и автор в конце романа: «...Я тоже как бы незримо, а может и зримо...». Но и цельности восприятия не складывается, когда все эти строки тонут в груде ничего не значащих абзацев. Тут даже уместно применить фразу из текста: «...Странный дурацкий сон. Я даже почти не помню его видеоряд. Только событийную канву, причем сам-то я как бы и не совсем в материале. Нет меня там. То есть, как бы я там есть, но совершенно непонятно в каком качестве...».
И даже с некоторым исчезновением по тексту самоповторов не становится лучше. Уверен, если автора попросить переписать свой роман заново по памяти, то многие подглавки просто исчезнут, а вместо них просто появятся новые, но с точно таким же подтекстом - третьестепенным. Так и в любом задушевном разговоре открываются новые темы, о которых потом и не вспомнишь, когда захочешь пересказать разговор.
Мне кажется, что и названия собственных глав автор не воспроизведёт досконально, как и расположение подглавков внутри каждой главы, ведь их можно напутать местами так, что сам автор растеряется и не восстановит порядок.
От автора: «...Вот еще в эти игрушки он не играл. Все как с ума посходили, особенно корреспонденты научпопа, всё лезут и лезут туда, где сам черт ногу сломит...»
- Да, за умные словообороты можно было бы простить, но автор за собой не замечает, что в большинстве своём из обычнейших фрагментов читателям он оставляет мешанину. Был бы весь текст избыточно заумным - он стал бы вещью цельно интеллектуальной.
От автора: «...Вася переминается, с ноги на ногу, он явно хотел чего-то или сказать или спросить, но не знает, с чего начать, а Ирина его забалтывает...»
- Читателям сего романа остаётся быть Васятками, которых забалтывает автор.
Ещё больше автор сам обижает читателя: «...Пространство романа. Особенно в том, что оно возникло из ниоткуда, и развивается в никуда, заселяется персонажами, расширяется, мимикрирует в угоду полёту авторской фантазии...».
- Мы на празднике жизни автора. Мы случайные забредшие читатели, которые не осознают до конца, по какому случаю собрано мероприятие.
Автор лишь изредка самоироничен, но автор больше всего насмешлив. И самое обидное, что насмешлив над читателем: «...Если между трансцендентальным актом и рефлексией по поводу самой возможности осуществлять конечному человеческому естеству трансцендентальные акты может быть установлена некая своеобразная синергия. Но не более того.
И в то же время и то, и другое - вода...».
- Любит автор посмотреть на людей, у которых выражение лица становится глупейшим лишь из-за попытки вникнуть в суть произнесённого для них. В жизни - это забавная штука, а в литературе - затея проигрышная, если её несоизмеримо много на объём текста.
От автора: «...Интересно, это я один такой умный, или все уже и сами догадались? Наверное догадались, только не знают как первый шаг сделать...».
- Да почему же, можно сделать первый шаг. Да только от признания такого ума многие печали. В данном случае - читательские.
И автор сам же понимает: «...Вы читаете, как мне кажется неправильно, потому что вам не терпится узнать, а что там будет дальше. А это совсем неправильно. Потому что, что там будет дальше, я пока и сам не знаю, а вдруг там будет совсем не интересно, так тоже же иногда бывает, не мне вас учить...».
- Но подготавливать к такому чтению было бы полезным. Последующие, а вернее прилегающие к озвученному абзацу попытки научить понимать этот текст не дают ничего.
Не дают многого и убеждения автора в отношении своего романа: «...Эволюция текста медленно, но неуклонно приводит к появлению высших форм, которые одни только и оправдывают само существование несвязанных связанностей, возникновению того, что как бы ниоткуда берется и одухотворяет эту ерунду, которая в итоге и должна произвести то чудо произведения, без которого никакого произведения попросту и нет.
По крайней мере, мне так кажется...».
- На самом же деле текст остаётся на месте.
И в подтверждение вышесказанному высказался в своём романе сам автор: «...Текст замыкается в круг и превращается в плоскость. Герменевтическую плоскую поверхность, причем совершенно плоскую и даже при этом одностороннюю...».
- Остаётся только согласиться.
Но вот со следующим уже согласиться сложно: «...Я честно пытаюсь вникнуть и проникнуться, выстроить хоть какую-то пусть и неправдоподобную, но хотя бы логически непротиворечивую модель Вселенной, в которой обитают мои персонажи...».
- И мир этот не далёк от правды, ведь существует в почти привычном совершенно в беспорядочном потоке, но по тексту этого с избытком из-за чрезмерной путаности, отчего становится трудно воспринимаемым.
Автор создал роман-размышление. Здесь нет сюжета, а есть неконтролируемый поток мыслей, в которых путается или намеренно запутывает автор: «...А не знаю я много чего, но еще не всё потеряно, я еще чего-нибудь успею узнать, и естественно поделюсь своим знанием, потому что знание - это сила. Меня хлебом не корми, дай чего-нибудь поузнавать. И чем-нибудь поделиться...».
- Но обещание про инопланетян и «любоff» оставалось лишь приманкой. Как и сюжеты внутри глав, которые не раскрываются полностью, а нередко уходят в сторону от смысла самого названия главы.
От автора: «...В общем, я тут чушь написал, потому что умную-то мысль в книжке прочитал, но видимо не осмыслил её как следует, а вот сейчас как раз и пытаюсь это сделать...».
- И читая этот роман, ты не понимаешь: автор умнеет от главы к главе или ты поглупел к концу романа.
От автора: «...То, что иногда кажется сущей бессмыслицей, вдруг оказывается исполнено самого высокого смысла. А иногда наоборот...».
- Самое неприятное, что читателю мало остаётся для желания восхищаться высокими смыслами, когда их не оказывается с каждой последующей главой.
Ещё раз от автора: «...у некоторых случается так, что формальные рамки сочинения не удерживают развернувшихся в нем смыслов...».
- Но в данном романе все мысли уложились в рамки подглавок. Автор использовал роман в качестве записной книжки для фиксации походных мыслей. Мыслей, появившихся по ходу жизни. А по сути: автор просто взболтнул свои рассудительные догадки о мире.
Надеюсь, автор не обидится, ведь как он сам упоминает: «...Констатация очевидного не может быть оскорблением...».
