Рецензия на повесть «Долина Белого Камня»
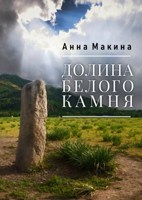
Совсем недавно я писал рецензию на повесть Анны Макиной «Белые цветы, черные корни». И вот теперь у меня в руках другая ее повесть «Долина Белого камня». Кому-то может показаться, что в названиях слишком много белого цвета, но тут ничего не поделаешь – в первом случае цветы моли белые по историческим источникам, во втором – географическое название. Никакого тайного умысла в этом нет.
Итак, идею повести мы можем обозначить коротко: «Совы всегда не то, чем они кажутся».
Жанр этой повести можно охарактеризовать как смешанный, он сочетает в себе элементы фэнтези, мистики и этнографии. Автор использует контраст между современной жизнью и древними традициями хакасского народа, чтобы показать, как главный герой открывает свою истинную судьбу и связь с потусторонним миром. Анубис, древнеегипетский бог погребальных ритуалов и мумификации, выступает, как и положено ему, в роли символа смерти и перехода, а также связующего звена между разными культурами и эпохами. Идея произведения интересна и оригинальна, так как соединяет мотивы из разных мифологий и легенд, а также знакомит читателя с уникальным миром хакасского аала, его обычаями, верованиями и историей.
В этой повести мы встречаемся с двумя знакомыми нам героями, которые ранее участвовали в другом произведении этого же автора. Речь идет о повести “Белые цветы, черные корни”, которая переносит нас в мир Древней Греции, полный мифов и легенд. Главные герои той повести - Кора и Горгий, родственники, обладающие необычным даром. Они могут принимать облик животных: Кора - кобры, а Горгий - тигра. В зависимости от обстоятельств, они могут появляться перед другими как люди, так же и как фантастические существа.
Структура произведения состоит из двух частей, которые постепенно сливаются в одно целое. В первой части, автор показывает реалистическую жизнь главного героя в хакасском аале, его проблемы, отношения с окружающими и интерес к легендам своего народа. В этой части также вводятся элементы мистики, которые проявляются в снах героя и в его встрече с туристами, которые оказываются посланниками Анубиса. Во второй части, автор увеличивает долю мистики и фэнтези, показывая, как герой попадает в царство Анубиса и становится его помощником. В этой части реализм отходит на второй план, а герой полностью погружается в свой новый мир. Структура произведения отражает тему перехода и преображения, которая связана с Анубисом. Автор создает эффект размывания границ между реальностью и фантазией, чтобы подчеркнуть, что герой находит свое истинное призвание и свою идентичность в мире мертвых.
Графически структуру произведения можно было бы изобразить как черно белый хакасский полосатый коврик, символизирующий переход от одного мира к другому. Верхние полосы коврика белые, что означает реальность, в которой живет герой. Нижние полосы коврика черные, что означает мир мертвых, в который он попадает. По мере того, как сюжет развивается, белые полосы становятся все тоньше, а черные - все толще. Это показывает, как реальность уступает место мистике, а герой меняет свою жизнь и свою судьбу.
Уж, простите мне эту маленькую слабость, но я очень люблю представлять сюжеты произведений в графическом или вещественном виде. Потому что, если вещь реально сделана руками, то ее всегда можно подержать в руках. То есть – она цельная и не распадается на лохмотья. Эта повесть цельная, достаточно продуманная. Возможно, что для читателя и вообще все прекрасно. Но пределов совершенству – нет.
В повести заметна некоторая несбалансированность в описании разных аспектов действия. С одной стороны, автор уделяет много внимания мелким деталям повседневной жизни героев, которые не имеют большого значения для развития сюжета или характеров. С другой стороны, он кратко и скучно излагает сны героев, которые, возможно, несли в себе какой-то глубинный смысл или символизм.
К счастью, автор умеет писать диалоги, и это умение немного подтягивает текст. Как пример, могу привести диалог в синей пещере. Публиковать его здесь не стану, но немного проанализирую.
Живость персонажей достигается за счет использования разных стилей речи: Рамзес говорит более официально и уверенно, используя сложные предложения, термины и обобщения, в то время как Мирген отвечает более просто и эмоционально, используя междометия, краткие ответы и вопросы.
Построение слов подчеркивает разницу в характерах и настроениях персонажей: Рамзес выступает в роли наставника, объясняющего Миргену суть их работы, поэтому он часто использует повелительное наклонение («Понял?», «Подумай», «Скажи»), а также риторические вопросы, подтверждающие его авторитет («Тебе понятно?», «Знаешь?»). Мирген же проявляет свою неуверенность, страх и недоверие, используя вопросительное наклонение («Нас мало?», «Что?»), отрицание («Я, кажется, не давал повода упрекать меня в трусости») и эмоциональные слова («Голова шла кругом», «набычился»).
Диалог способствует раскрытию темы и идеи произведения, связанных с противостоянием добра и зла, выбором жизненного пути и ответственностью за свои поступки. Рамзес объясняет Миргену, что их работа имеет глобальное значение для судьбы мира, и что Мирген должен быть готов к трудностям и опасностям, которые его ждут. Он также предупреждает его, что он не сможет вернуться к своей прежней жизни после Посвящения, и что он должен быть надежным и верным своему долгу. Мирген же испытывает сомнения и страх перед неизвестным, но также проявляет свою гордость и решимость, отказываясь отступать перед упреками Рамзеса.
Теперь о развитии главного персонажа – Миргена. Мы же все знаем, что каждый главный герой на протяжении повествования должен меняться, потому что его история, описанная в произведении, всегда динамична. В противном случае и писать было бы незачем, а уж читать тем более.
Вначале мы видим какое-никакое развитие главного персонажа. Он делает определенные действия и его состояние доводит его до попытки самоубийства. Все вроде с развитием логично. Но потом вдруг, мистические существа говорят — это не ты сам так решил, это все шаманы через такое проходят. Это все связано с твоей миссией. мы же тебя из петли вытащили. То есть здесь оказывается, что герой вовсе не развивался сам, а шел по накатанной кем-то дорожке.
Этот поворот сюжета кажется неубедительным и нелогичным. Он лишает героя его свободы выбора и ответственности за свои поступки. Он также уменьшает эмоциональный эффект его попытки самоубийства, делая ее не результатом его внутреннего конфликта, а частью какого-то предопределенного плана. Он создает впечатление, что автор не знает, как развить своего героя и прибегает к искусственным и навязанным средствам. Он подрывает интерес и сопереживание читателя к герою и его судьбе. К тому же опять звучит откровенный шантаж. Выбирай – или с нами, или помрешь. То есть никакого выбора не дают.
Опять скажу о языке. Автор грешил этим и в предыдущей повести, не изменил ничего и в этой. Язык гладкий, грамотный, но не впечатляет своей выразительностью и богатством. Автор использует мало эпитетов, метафор и других художественных средств, которые могли бы придать жизнь и краски его повествованию. Временами он пишет так, будто составляет полицейский отчет, а не литературное произведение. Он не умеет дозировать информацию и поддерживать интригу. В одном месте он вдруг начинает рассказывать о том, как устроен этот новый для героя мир, не оставляя места для фантазии читателя. В другом месте он устами другого персонажа начинает разбирать болезнь главного героя, хотя все это вместе с догадками можно было показать в самом тексте, таким образом оживив сюжет и давая читателю возможность уцепиться за какие-то узнаваемые вещи. Догадки самого героя всегда интересны и удерживают внимание читателя.
Один момент очень повеселил. На протяжении всей повести все персонажи проделывают языческие ритуалы возле Белого камня. Герой не исключение, а скорее главный проводник этого язычества со своими легендами и мифами. И вдруг в синей пещере ему задается сакраментальный вопрос: «Ты православный?» Ну, во-первых, если бы персонажу захотелось объяснить что-то про Чистилище, то логичнее было спросить – «ты христианин?», особенно если спрашивает существо, пришедшее из Египта. И самое интересное, что сразу же после этого вопроса персонаж начинает излагать основы Египетской Книги мертвых. Православие здесь, мягко говоря, ни к чему не привязать.
К православию автор обращается и в середине текста, когда Мерген рассказывает миф о потопе. Миф явно не особенно древний. Похоже новодел. Но опять, «православие у нас насаждают четыре века». Мне кажется, что это тоже избыточная информация. Либо ей нужно было уделить больше места, либо вообще не вспоминать, потому что повесть о другом. И опять же, почему это царапает ухо, сам термин «православие», есть только в русском и некоторых славянских языках, там, где крестили византийским обрядом. И это скорее лишь намек на то, что у них самое правильное христианство. Вообще византийская церковь называлась кафолической апостольской. Но это, конечно, чисто богословский термин. Поэтому лучше в таких смешанных текстах использовать термин «христианство». И автору спокойнее, и читателю комфортнее.
Конечно, автор может сказать, что я просто придираюсь. Но все это я прочитал в ее тексте. Мне никто извне ничего на ухо не нашептал.
