Рецензия на роман «Цветы лазоревые»
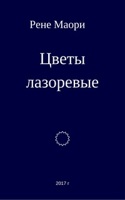
…Все мерещилось: что-то было!
Но пустое.
Конец истории:
синь небес да цветы цикория
над забытой всеми могилой.
Видно, всему виной завышенные ожидания. Уважаемые на АТ старожилы сказали: среди нас живой классик; конечно, я ждал чего-то необыкновенного. Необыкновенного, к сожалению, не случилось. А что случилось – об этом все-таки постараюсь рассказать. Итак…
«Цветы лазоревые», что мне в этой повести
Сам автор позиционирует произведение как роман, подростковая проза. Это, конечно же, повесть, но тут претензий быть не может – претензии только к сайту. (Запилите нам, друзья админы, такую форму, как повесть, а? Очень надо!) А вот что подростковая проза… сомневаюсь я, что подросткам это понравится. Для девочек – сухо, для мальчиков – медленно, для тех и других – не затрагивает сущностных проблем взросления: самопознание, самоопределение, социализация. Нет, самоопределение затронуто, но очень краешком. А вот нравственный урок… Да, я всерьез считаю, что взрослый, когда пишет книгу для подростков, должен вложить в нее нравственный урок. Грамотно вложить, тонко, без диктата и нравоучений. Чтобы читатель сам его откопал, как неожиданный клад, и порадовался. Так вот, я на цикориевой поляне никакого клада не нашел. Разве что: каждый человек должен быть оплакан и похоронен. Но это маловато будет, маловато. Тем более что нового звучания эта старая истина в произведении не получила. Так что в итоге повесть «Цветы лазоревые» оказалась обычной мистической историей, немного печальной, чуть-чуть жуткой, а в основном – незатейливо-предсказуемой.
Но все же по порядку.
Сюжет (и тут сразу будут спойлеры курсивом, которые, собственно, ничего и не меняют)
Повесть рассказывает о девушке Ире Синицыной из 70-х годов прошлого века, актрисе полупрофессионального театра. То через сон, то через болезненный бред, то по воле возбужденной фантазии Ира оказывается свидетельницей событий из жизни Кати Барминой, жившей более ста лет назад. Желая узнать, существовала ли Катя на самом деле или это только плод ее воображения, Ира начинает изыскания. В поисках и вообще в жизни ей помогает друг, актер того же театра Юрий, в шутку прозванный Йориком. Постепенно выясняется, что семья помещика Бармина и правда жила в усадьбе неподалеку, но никакой Кати среди его детей никто не помнит. Ира с Йориком не сдаются и в конце концов находят без вести пропавшую Катю. Она погибла от несчастного случая и до сих пор не захоронена. В итоге прах Кати Барминой предают земле, а Ира и Йорик счастливо женятся.
Стиль повествования
Из плюсов отмечу легкий слог – именно это и побудило прочесть все-таки повесть до конца. Очень легкий слог. Хороший язык, грамотный, чистый. В меру богатый, образный с одной стороны и не перегруженный ни отступлениями, ни странными непонятными словами с другой. Повесть читается прямо-таки влет, проскальзывает.
И вот то, что проскальзывает, мне уже не нравится: не за что зацепиться, нечего запомнить, никак не составить в памяти неповторимый образ авторского мира и самого произведения. Стиль писателя – как художника: свой колорит, свои формы, свой способ штриховки или мазка. Тут, среди гладкости, я ничего того не нашел. Быть может, автор специально упрощал, чтобы не отпугнуть подростков сложностью? Так, по-моему, зря. Гораздо проще привлечь яркостью, живой эмоцией и необычной интригой, чем предельной простотой.
Лица героев и лики эпох
Главных героинь повести две: Ира Синицина и Катя Бармина.
Линия Кати мне показалась интереснее, более романтичной, чувственной и загадочной. Причина, скорее всего, в том, что сама героиня такая: порывистая девушка с душой хоть и нежной, даже робкой, как в финале выясняется, но все же ищущей и стремящейся за горизонт. Среди Барминых Катенька одна – лазоревый цветок. Остальных персонажей можно считать антуражными (сестры, братья, мать, прислуга, гости) или функциональными (отец, художник Камцев) – не более того.
Ира же, честно сказать, вообще не впечатлила. Вредная инфантильная девица, не привыкшая ни к серьезному труду, ни к ответственности за близких или порученное дело. За всю историю Ира (а повесть большей частью написана от ее первого лица) ни о ком из родных и знакомых не отзывается положительно: или осуждает, или обижается, или выражает неприязнь. В лучшем случае – к матери, бабушке или подруге – она нейтральна. Напряженная работа – обучение в техникуме по не самым любимым дисциплинам, полевые работы в селе – вызывают у нее нескрываемое отвращение. Она, видите ли, слишком слабая, нежная, тонко чувствующая натура для грубого труда, и создана исключительно для творчества. Но если рассмотреть ее творческие занятия, то окажется, что историю Кати Барминой она не дописала; на репетиции в театр вполне могла опоздать, явиться с неподготовленной ролью или сидеть, думая о своем, вместо того, чтобы слушать режиссера и участвовать в обсуждении. А в финале мы и вовсе видим, как она готовится выступать в спектакле, который ей откровенно не нравится, и все тому же Йорику приходится объяснять ей азы профессиональной этики.
Зато в линии Иры и 70-х годов есть другие более-менее раскрытые герои, второстепенные: Йорик, мать и бабушка (ба или Лена); эпизодические – цыган Миро.
Первое, что хочу отметить – это то, что все персонажи говорят языком автора: правильным, грамотным, слишком богатым для простого разговорного. Более всего это напоминает язык школьного учителя литературы. В моем понимании так могла бы говорить ба Лена «из бывших», но никак не 17-летняя Ира и не пожилой, хоть и грамотный цыган Миро. И дело даже не в какой-то особенной лексике, а в подборе слов, построении предложений, широте и силе вложенных эмоций. Этого нет – на уровне языка персонажи совершенно одинаковы.
Исключение – мать Иры. Она говорит на суржике. Так автор обыгрывает малоросское происхождение этой женщины. Но тогда почему языковые особенности, присущие матери, никак не отразились на дочери? Ее что, не мама воспитывала?
И вот, вспомнив о воспитании, не могу не отметить еще одну странность. В тексте прямо говорится: между единственными родственницами Иры существовала глухая вражда: аристократке Лене не нравилась работяга-хохлушка, а пролетарка стыдилась того, что в их семье классовый враг. Но нигде в тексте это утверждение не отражено. На протяжении всей повести мать и бабушка прекрасно общаются, взаимодействуют, и никакая вражда даже не проскальзывает. Автор написал и забыл?
И, наконец, не могу не сказать о временах и эпохах.
В повести два мира и по идее должно быть две абсолютно разные жизни. Ведь между Россией времен отмены крепостного права и Советским Союзом 70-х годов – пропасть. Там и говорили, и двигались, и думали совершенно по-разному: разный уровень комфорта, разная одежда и обувь, разные бытовые привычки, разные нравы, обычаи, мораль… да там даже пахло по-разному! В мире Кати Барминой не было заводов и машин, в мире Иры Синицыной не пели петухи, а «бывшие» давно смешались с работягами. Соответственно, все это должно быть отражено в произведении. А есть оно? Нет его. Девятнадцатый век от двадцатого не отличается абсолютно ничем. Да… собственно, и от современности оба этих мира произведения ничем не отличаются: у героинь то же самое отношение к жизни, что и у наших современниц. И если Катя еще хоть чем-то отличается – проявляет покорность отцу, боится его гнева (хотя при этом ни должной религиозности, ни условностей этикета, ни почтения к матери я не заметил), то Ира совершенно на советскую комсомолку не похожа, скорее на современную провинциалку средней степени образованности.
Не так много сейчас историй про советскую молодежь, но мне повезло – еще одну я читал всего год назад. Это «Школота» Лидии Дударевой. И вот там Советским Союзом пахнет! Пахнет ярко и отчетливо. Так что мне есть с чем сравнить.
Придирки читателя с СПГС
Поскольку отсутствие идеи и четкого авторского посыла никак не дает мне покоя – не могу я поверить и смириться, что этого нет – я решил еще раз пройтись по повести с лопатой и покопать глубинные смыслы.
Итак:
Ира не хочет быть бухгалтером – хочет быть актрисой. Что тут могло бы быть? «Не будь конформистом – иди за мечтой и призванием»? Было бы так, если бы Иру осчастливил театр. Но нет, театр, бывший в начале повести мечтой, в конце отходит на второй план, затирается, и в финале мы видим, что Ира репетирует ненавистную роль.
Йорик добился любви терпением и упорством, доказал и получил. Да, есть такое дело. Только вся любовь между Йориком и Ирой укладывается буквально в один эмоциональный порыв и так и не перетекает в глубокое, осознанное чувство, дарящее ощущение счастья, гармонии или еще чего-нибудь настолько значимого, чтобы остаться в душе и памяти, когда книга уже закрыта. Мелькнуло – и все. Да и о любви Ира так и не сказала, не призналась себе честно, что влюблена.
С любовью в повести вообще чепуха. Единственный, кто там серьезно влюблен – это Юра. Он волнуется за Ирину, помнит о ней. Сначала не забывает о подарках, потом - сидит у ее постели во время болезни. Он интересуется ее бредом о Кате, помогает ей в поисках, он же учит быть актрисой и вообще всячески поддерживает. Но все эти старания, все достойное внимания благородство проходит фоном, без явных авторских акцентов. Зато ярко акцентируется Ирино «жалею» с подробным объяснением, что, мол, у русских женщин «жалею» значит «люблю». Извините, автор, но не верю. Ни разу я ничего такого за всю свою жизнь не слышал, хотя Ира по ходу должна быть ровесницей моих родителей. Это, может, в дремуче-патриархальные времена так и было, но через 50 лет после революции, когда и эмансипацию женщин пережили, и времена сексуалной свободы, и войну, которую бабы вытащили наравне с мужиками… не верю я в эту скромность. И еще более странной она мне кажется, когда «жалею» мгновенно сменяется «не бросай меня». Так кого Ира жалеет-то? Йорика? Или все-таки себя?
Про любовь Катеньки и Камцева вообще говорить смешно. Не любовь, а одно недоразумение.
Сделай добро для ближнего и обогатись душой. Такой посыл мог бы быть у истории поисков Кати и захоронении останков, если бы Ира и в самом деле чем-то явно обогатилась… но чем? Что нового с этой историей она открыла в себе? Что отыскала в ближних, в мире?
Предположим, что отыскала она предков. Действительно, есть такое… но почему тогда нет никакого эмоционального всплеска по поводу этой находки? Вот Катя – да, она у Иры живые эмоции вызывает, а остальные Бармины – что есть, что нет. Ира к ним совершенно равнодушна.
Или все дело в том, что Ира нашла останки Кати, дала возможность предать их земле – и этим исполнила какое-то свое предназначение… но опять эмоционального акцента нет! Нет четко прописанного чувства исполненного долга у Ирины, все слишком гладко и буднично. Да и мистические сны Ира видеть перестала. Так, может, это даже плохо: была необыкновенная, а стала как все.
Я бы мог еще долго копать, и все с тем же успехом… но, пожалуй, хватит уже народ утомлять. Поэтому закругляюсь.
Осталось еще несколько вопросов:
Зачем в линии Ирины нужна подружка Ира?
Зачем в линии Кати нужен друг Владимира, тот, который неприятный сын часовщика?
Этим персонажам уделено немало внимания, а роли они практически не играют - так, антураж.
И зачем нужна была история о том, что Миро знаком с ба Леной? Что это дает? Осталось нераскрытым, а было любопытно.
Резюме
В общем, как ни старался я – никакой идеи, нравственного урока или глубинного смысла в повести не нашел. Подобные истории, разве что менее литературные, но зато более страшные и приключенческие, в походах у костра сочиняют, чтобы ночь скоротать.