Рецензия на роман «Играя с Судьбой том 1»
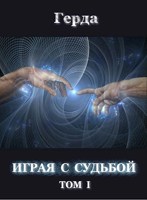
Рецензия прикреплена к первому тому, но по сути она на весь цикл. Вернее, не так — на всё произведение.
И да, спойлеров я старался не допустить, но книга сама по себе такова, что в полной мере дать ей оценку, избежав даже намёка на некоторые сюрпризы, крайне затруднительно. Так что если вы считаете себя особенно проницательным, то подумайте, стоит ли вам раньше времени читать эту рецензию дальше.
Ещё читаете? Ну, ладно, если что — я предупредил. Начнём.
«Играя с Судьбой» — произведение крайне противоречивое. И нет, это я не пытаюсь так вот его обругать, но издалека и дипломатично. Нет и чего-то такого в его содержимом, что меня бы по-плохому ошеломило и тем самым начало мешать оценке художественных достоинств.
Оно противоречивое в самом прямом и честном смысле, и оттого вызывает исключительно полярные на него реакции — и это только у одного отдельно взятого меня. Я не могу назвать эту книгу хорошей, не могу назвать её плохой, не могу даже охарактеризовать её, как среднюю. И всё богатство полутонов между этими тремя понятиями мне не в помощь, поскольку ну не подходят они для её оценки. Книга-аномалия, серьёзно.
Если в целом, то перед нами — история о том, как персонаж, попаданцем-реинкарнатом не являющийся, но по некоторым пунктам к нему приравненный, заруливает нарастающие угрозы, набирает влияние и движется к достижению целей, проистекающих из условно-прошлой жизни.
Что звучало бы банально, затасканно и не в хорошем смысле «топово», если бы для выявления этой сюжетной линии и её окончательного опознания, как главной, требовалось осилить чуть меньше печатных знаков. Будет вполне неплохо, если вы начнёте о чём-то догадываться где-то к концу первого тома. Уже во втором, впрочем, становится понятнее, так как скачки по фокальным персонажам и сюжетным веткам... Нет, не угадали, не исчезают. С точностью до наоборот — становятся интенсивнее. И от такого роста мозаичности картина в целом начинает проступать намного отчётливее, чем было до того.
Побочных линий не просто много — они есть почти у каждого именованного персонажа. Причём, образ подавляющего большинства из них отнюдь не статичен. Все раскрываются, все с мотивацией, все многогранные, с чувствами, привязанностями, антипатиями, особенностями и целями. Все со своей собственной историей, которая у иного автора потянула бы на отдельную книгу. И через каждую линию при этом как-то раскрывается главный герой, что-то новое о нём так или иначе через каждую новую ветку становится понятным. Но не сразу. И не так уж явно. С явным здесь вообще своя атмосфера, практически всё — не то, чем могло показаться на первый взгляд.
Ну, и коли уж выходит, что за прикладное персонажестроение и всяческое интриганство я книгу хвалю, то, чтобы два раза не вставать, упомяну сразу, что в ней ещё хорошо.
Хорош сеттинг, сочетающий космооперные, фэнтезийные и мало что не боярские мотивы в довольно-таки оригинальном сплаве. А особого внимания в нём заслуживают концепции Судьбы и Удачи не просто как слепых и бездушных пересечений множества вероятностей, но как реально действующих сил, своего рода обезличенных богов авторской вселенной.
Выделю также проработку сюжетных коллизий и саспенс, на который они работают. Герои не приключаются ради того, чтобы приключаться, чем многие книги, увы, грешат. Каждый эпизод, каждая линия весьма ветвистого сюжета работают на общий результат, а перепетии, подсовываемые автором своим персонажам, выглядят довольно-таки по-взрослому.
Ну, и что относится уже к послезнанию, основанному на осиливании всего имеющегося материала, но всё-таки. У романа в целом довольно стройная макроструктура, не сводящаяся к моей любимой трёхактовой, но в принципе с ней совместимая. Введение, развитие, изменение и синтез. По тому на каждое, с цельной логичной историей в результате.
А теперь о плохом.
Складывается впечатление, будто автор, действительно качественно продумав моменты, которые я выше обозначил, как достоинства книги, решила, что дело уже сделано. Что самое главное и высокохудожественное уже на месте, а кому этого окажется недостаточно, тот ничего не понимает, вредина и вообще хейтер.
В результате имеем воистину «топовый» слог, в том самом смысле. И я сейчас не про опечатки и огрехи пунктуации — это, конечно, далеко не остаётся незамеченным, неиллюзорно мешая погружаться в сюжет, но оно поправимо без хирургического вмешательства. Даже без привлечения профессионалов и в полуавтоматическом режиме, есть инструменты.
Речь скорее, например, про повторяющиеся прилагательные в соседних предложениях, а то и в одном. Грузовичок с синонимами, видимо, очень к нам спешил, так, что не справился с управлением и кубарем спорхнул с виадука.
Или про куски экспозиции с рефлексией, которым не нашлось лучшего места, кроме как посреди диалога. Вот поставил кто-то очень живо трепещущий вопрос, на который ответ не то что прямо сейчас нужен, а вообще чуть ли не вчера желателен. И — стоп, динамика сцены говорит «ну да, ну да» и упирает руки в бока, аки Колин Фаррел во втором сезоне «Настоящего детектива». Всем замереть, подъехал разъяснительный абзац.
А в качестве связующего звена между абзацами действия и размышления, или размышления и действия, или этапами размышления или действия, лучше всего, безусловно, подойдёт какой-нибудь трюизм. Что-то не слишком информативное и даже очевидное, без чего можно и нужно было обойтись, но иначе как же переход-то сделать.
В рассуждениях героя же тянуть сверх меры с переходом от тезиса к антитезису, затем осознанию и катарсису, совершенно лишнее. В одном абзаце и в соседних предложениях, сразу очередью, будет вполне нормально. Кому оно слишком быстро, чтобы драматичность этого самого осознания прочувствовать, тот ведь может остановить чтение на минутку и подумать, а остальным и так понятно.
И канцелярит.
В общем, джентльменский набор методов изящной словесности прямиком из виджета «Популярное». И это очень непросто, увидев и распознав его прямо с самого начала, преодолеть себя и помешать себе сделать напрашивающиеся выводы. Для этого надо очень нехило так априорно автору доверять. Ну, или быть побитым молью жизнью рецензентом с чёткими представлениями о долге и чести правоверного наследника Белинского. Наконец, как вариант, не видеть в этом проблемы, что, впрочем, довольно распространено.
Но не слогом единым. Есть что сказать и о сюжете. О том, к примеру, как для придания ему нужной конфигурации герои и прочие персонажи начинают радостно делать глупости. То есть, извините, так действуют Судьба и Удача. И когда чему-то очень надо произойти, но шансы на это выглядят ничтожными, именно под влиянием этих высших сил проявляет себя высокооктановый человеческий фактор. Заявленные профессионалы по-дилетантски косячат, умные опытные циники по-подростковому тупят и нежно рефлексируют, бесстрашные отморозки паникуют и мало что не плачут в подушку. Ибо Судьба! Плюс неосознанный стратегически пробуждающийся эмпатический дар, который впоследствии объясняет, на самом деле, многое. Но делает это настолько задним числом, что эффект найденных ложечек и оставшегося осадочка всё едино возникает. В общем, возникает ощущение, что реперные точки сюжета были размечены заранее, а рельсы между ними проложить забыли. Вот и приходится двигаться между остановками напрямик, выдавая суперменские прыжки с тройным меховым тулупом через случайно оказавшееся на пути болото с крокодилами.
И ещё о сюжете, вернее, о его структуре. Может, это только мне со своей колокольни кажется, но есть ощущение, что решение развернуть книгу на четыре тома было принято где-то в конце девятиглавного пролога. Поскольку, при всех шероховатостях и при всей ибосудьбе, композиционно он из себя представляет очень хорошо выверенный по хронометражу первый акт, прямо как по учебнику сценарного дела. Нетипичная экшонная установочная часть, событие-триггер, размышление и осмысление, принятие осознанного решения приключаться — там всё это на своих местах и правильного объёма, не скомкано и не затянуто. И, при всех прочих равных, желание узнать, что там дальше, безусловно, есть, а это в данном случае признак того, что структура работает.
А дальше, похоже, пришла идея, и первым актом стал первый том. Каковым для верхнеуровневого сценарного плана произведения он в полной мере и является. И функции свои сюжетные, если смотреть в контексте всех четырёх томов, вполне себе выполняет, тут уж что же я буду спорить, если оно действительно так. Но макроструктура, которая уровня томов, не заменяет микроструктуру, которая уровня глав, и не делает её избыточной. А в «Играя с Судьбой» сделано, как будто это так, и в результате внутри тома-акта наблюдается несколько хаотичное движение с вектором к очередной узловой точке.
Вот такое вот сочетание достоинств с недостатками и образует ключевое противоречие романа. Его, можно сказать, загадку. Можно предположить, что автор в чём-то не вывезла собственного замысла, что где-то ей не хватило мастерства на его воплощение — но вот тут тогда получается аномалия. Ну, не бывает такого практически, чтобы такое владение высокоуровневыми навыками, которое было продемонстрировано автором, не коррелировало с определённым минимумом навыков низкоуровневых, следов чего в романе как раз недостаёт. Это как понять и мочь применить общую теорию относительности, конкретно плавая в базовой ньютоновской механике.
Или мастерство на месте, но было принято решение конкретно здесь на нём не акцентироваться. Почему? Зачем? Это хорошие вопросы. Варианты ответов на которые, впрочем, находятся уже вне контекста этой рецензии.
Что же до общих рекомендаций насчёт чтения... Да в принципе, при всём сказанном, читаемо. И если просто принимать происходящее на страницах, не думая себе никаких посторонних мыслей, то «Играя с Судьбой» может преподнести вам ряд вполне приятных сюрпризов. Однако, если вы подозреваете за собой способность, глядя на задумки, представить, чем эта книга могла бы быть, то осторожно. Возможен приступ ярости.
