Рецензия на повесть «Сломанная Челюсть говорит от имени всех»
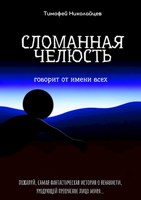
Когда звезда умирает – она взрывается. Но делает это по-разному.
Когда звезда умирает – она оставляет труп. Но трупы эти разнятся.
Когда звезда умирает – она содрогает мир. Но каждый раз – иначе.
И когда умирает простая звезда – она становится карликом. И он будет остывать триллионы лет.
Но когда умирает массивная звезда – она становится сингулярностью. И даже свет не может убежать из её хищной пасти.
А вот когда умирает что-то между – появляется пульсар. И старуха Вселенная получает нечто особенное. Нечто... точное. Почти как атомные часы.
Но ведь этого же мало, правда? Не может же человек просто рассказать историю о жизни звёзд? О том, как они зарождаются, как прожигают свою жизнь, и чем в конце концов расплачиваются? Конечно нет. Это будет скучно. Механистично. Бес... человечно.
Но что нужно сделать для того, чтобы добавить интереса в текст? Чтобы привлечь к нему внимание? Чтобы они читали его и сочувствовали ему? Чтобы автор не считал, что творил зазря? И ответ один – добавить людей. Вот и Тимофей Николайцев в своём рассказе «Сломанная Челюсть говорит от имени всех» – далее, просто «Челюсть» – пошёл в «паломничество» и сотворил научную фантастику.
Но фантастики сейчас много. Каждый дурак пишет фантастику. И каждый пытается выделиться. Но как победить всех? Как добавить в неё изюминки? Как уйти от кораблей, что бороздят просторы Большого театра? Как избежать повторений и привкуса жёванной бумаги? Изобрести контраст! Но что может быть контрастнее космической фантастики? Ответ простой – приземлённая проза. Но что может быть приземлённее автохтонов? Примитивизация этих автохтонов! Но как выдержать грань между эллинизмом, когда у народа уже есть философия, письменность и боги, и дикарями, которые едва-едва освоили огонь? Взять что-то между! Но не среднее по времени, а медианное.
И тут на сцену выходят индейцы. Но Т.Н. не списывает их с какого-то конкретного племени. Он берёт их дух. И конструирует на его основе идею, что технически деградировавшее человечество всего за «восемьдесят лет» откатится до состояния, и культуры, тех самых индейцев, из которых Карл Май так нежно вылепил своего великолепного Виннету.
И фантазия получилась на загляденье! Ведь мир «Челюсти» – это планета-зомби, где «первая луна поднялась над далёким травяным лесом», и «её свечение сеялось сквозь узлы ленточных облаков». А «гигантская, в половину неба, вторая луна», которая сменяла первую на небе, «проявляясь из темноты», и ионизировала «верхние слои атмосферы», осыпая планету градом «быстрых нейтронов». А после, закрывая её уже собой появлялась уже третья луна, и её «мертвенный фиолетовый свет [...] подсвечивал тусклую, погибшую плесень», а притяжение «тянуло воду к себе, выгибая реку вогнутым желобом».
Восхитительно, превосходно. И без шуток прекрасно. Но!.. Всегда есть какое-то «но», правда?
Вот и здесь выходит, что нейтронная звезда, которая, на самом-то деле, и есть эта «вторая луна», – это и не магнетар, ведь он сгорает за миллион лет. И не пульсар, который истончится за сто миллионов лет. А самая обычная звезда, хотя и её излучение может согреть атмосферу. И согреет.
Да, Т.Н. пишет, что собрал эту систему в окрестностях молодых нейтронных звёзд, но это не так. На этой планете есть «травяной лес». Есть треугольные прыгающие «рыбы», которым нужно дышать в воде, а вода – увы-увы – просто так кислородом не насыщается, это процесс не быстрый, ведь для этого сперва должна окислиться вся литосфера и свободное железо (а железо в планетарных туманностях точно есть). Да и вообще, даже если допустить, что всё понятное живое, что есть в тексте, – это инвазивные, пришлые виды, то вот со светящейся слизью, что «проносилось мимо борта, закручиваясь хищными воронками жидких ртов», так уже сказать не выйдет.
И по итогу мы имеем то, что планета довольно стара. А учитывая, что после выброса, у неё было время сконденсироваться, собраться, пройти эпоху планетозималей, возможных бомбардировок и всего прочего того, что переживают планеты (даже будучи сделанные из трупов других планет) – ей миллиарды лет. Нашей Земле, в аналогичный момент, было чуть больше четырёх. Нет, конечно, можно проспекулировать и сказать, что эта, как, впрочем, и другие (не будет же автор настаивать, что это мультизвёздная система?), планета – пришлая и была гравитационно захвачена. Но... Т.Н. сам написал, что планета «Челюсти» – это горький снежок «сплошь из оксидов натрия и хлора».
Но вот только проблема в том, что нейтронная звезда не излучает нейтроны. Она, в зависимости от возраста и кондиции, излучает или в диапазонах от гаммы до радио, или же электрон-позитронные пары, что образуются магнитным полем пульсара при его вращении. Но это уже не пульсар. Староват-с. Поэтому и все ухищрения для борьбы с нейтронами – лишние. Да, можно было бы исхитриться и переписать их под гамму или рентген. Но в этом уже нет смысла. Потому, что самая главная защита от них – у героев над головой. Но об этом ниже.
Да, вероятно, изображая нейтронную звезду в «половину неба», Т.Н. художественно приукрасил. Чуть-чуть. А ежели нет, то выходит, что планета «Челюсти» вращается – исходя из разных вводных: диаметра звезды и её углового размера – от микро- до наноастрономической единицы от своей звезды. А это не просто близко – это внутри предела Роша. Ну и это ещё не всё, ведь «третья луна заслонила вторую, — напомнил чужаку Сломанная Челюсть», а, значит, та ещё ближе.
И с одной стороны, да, такая близость может и притянуть воду, и даже отразить достаточно света, чтобы герой смог увидеть «как прыгают его собственные пальцы». Вот только сумерек на такой планете быть уже не может. Ведь у планеты есть атмосфера. И она достаточно плотная для того, чтобы вода не испарялась при двадцати градусах. И даже больше! Она достаточно плотная для того, чтобы на ней жили и размножались организмы, которых человек может употребить в пищу. Ведь «прирученные растения могут давать урожаи даже от речной воды». И герои едят их. А значит атмосферы достаточно для того, чтобы гасить гамму и рентген. А значит – в ней достаточно атомов, которые могли бы взаимодействовать с излучением нейтронной звезды. А значит – она достаточно тяжёлая для того, чтобы её не сдувало излучение этой нейтронной звезды. А значит планета достаточно тяжёлая для того, чтобы удерживать такую массу атмосферы (привет-привет вторая космическая и тепловое движение молекул). А значит планета тяжелее Земли. А значит у неё может быть атмосфера ещё тяжелее…
И всё это, в конце концов, упирается в то, что искомый «горький снежок» – это суперземля, которая и тяжелее, и больше нашей родной Земли. И атмосфера там массивнее, и, возможно, даже плотнее. А ещё там магнитное поле сильнее Земного – раз атмосферу ещё не сдуло. А значит ионизированный газ, тот самый газ, через который проходит то самое ионизирующее излучение, будет двигаться к магнитным полюсам, и над планетой будут сиять восхитительнейшие, масштабнейшие, красивейшие авроры.
Поэтому на их планете всегда светло. На ней всегда тепло. На ней нет нужны прятаться от «радиации». Поэтому «всё живое» не «сидит по норам или под толщей солёной воды». Оно процветает! Процветает под чужим небом, что светится целый день. Под небом которое греет и спасает от ада пустоты.
Но вот процветают ли индейцы, которых Т.Н. поместил в этот, без дураков, уникальный мир?
Нет! Иначе это было бы не интересно.
Ведь в утопическом нет эпического, а без превозмогания текст тускнеет. И вот уже «кольчуга, сплетённая из упругих металлических нитей от древних нержавеющих тросов, казалось, была ему тесной», а «сплющенные полосы железа прикрывали его ключицы, делая плечи еще шире». И всё на голое тело. Потому что «стриженные макушки гребцов, взмокших от работы на веслах, исходили паром», и «они тоже [...] были в железе; мускулы их лоснились». В принципе, дальше становится понятно отчего местные индейцы на «грани вымирания», хотя их «женщины плодятся, как одержимые». И дело даже не в «паломничествах», когда мужчина «должен иметь силы убить как минимум двоих человек», ведь «только тогда [его – Э.Ц.] паломничество имеет смысл».
Нет, конечно, у них есть одежда. Правда указывается на это только в самом конце, когда «Чужак попытался ухватить его [Сломанную Челюсть – Э.Ц.] за штанину». Есть ботинки. Но с мягкой, видимо, подошвой. И как они только не режут стопы «схватившимся в корку песком и кристаллами соли», что успевают «на него осесть и затвердеть». Есть «дюралевые» баркасы. Только вот то, что они вёсельные – открывается лишь потом, когда показывают гребцов. Есть знания об огнестреле, ведь командир баркасов не просто может отличить воронёную сталь от обычной, видел патроны, но и знает, как пахнет оружейная смазка. Есть даже знания того, где они живут. Есть боги: Силы и Жизни. Есть камни, которые надо тягать. Есть обычаи, которые надо чтить. И есть гены, которые надо передавать. Вот только будущего у них нет.
И даже не ясно как они попали в своё настоящее, которое вполне можно представить уже нашим будущим.
Ведь они не смотрят в небо. Иначе как объяснить то, что при наличии сверхсветового перемещения люди так и не сделали полный атлас неба? Так и не посчитали, где какие планеты находятся, ведь «никто [...] не ожидал», что планета, на которую совершают аварийную посадку «окажется [...] горьким снежком»? Так и не выяснили, где находятся и как движутся звёзды? А учитывая, что «[они – Э.Ц.] до сих пор толком» не знают «насколько сильно может искажаться гиперпространство в окрестностях молодых нейтронных звезд», но при этом летают. И то, что они всё ещё живы – это просто чудо.
Ведь они не умеют расшифровывать ни спектральные линии. И телескопов, судя по всему, у этой цивилизации нет. Нет у них и единого протокола аварийной посадки. Ведь тот, «наспех разработанный» всего лишь «предусматривал размещение Кораблей в руслах больших рек, раз уж на этой планете отсутствовали океаны». И никакого быстрого анализа атмо-, гидро- и литосферы. Профессионалы так не делают. И у них автоматики никакой нет. А, может, именно поэтому вся их колонизация проходит наобум? Может именно поэтому, они так часто блуждают в небе, что аж «спасателям» раз за разом приходится «слышать от тех переселенцев […] как они довольны своей теперешней жизнью»? И вся эта «вынужденная робинзонада» выглядит как нелепая насмешка над здравым смыслом. Ведь их «люди на небесах» – те самые «спасатели» – всё-таки читают «отчеты с брошенных орбитальных станций», что «до сих пор исправно работают». Которые, видимо, были. Но которыми, видимо, никто не пользовался. И не пользуется.
Но ведь это глупо? Да, это глупо. Но, с точки зрения ремесла – это правильно! Иначе будет скучно! И не получится делать щиты «тяжелые, но совершенно неуязвимые для любого оружия» из обломков труб, которые «во время полета были разгонными блоками». Зато потом получится переиспользовать их, сделать «частью теплообменной системы». А потом придумать пар, что «был перегрет настолько, что стал почти плазмой». И совершенно позабыть тот факт, что даже если отбросить техническую температуру ионизации водорода – тринадцать целых, шесть десятых электронвольт – и взять промежуток от трёх, до десяти килокельвинов, то всё равно описанные процессы происходят не так. Пар не пар. Трубы не трубы. И горение уже не горение. Да и не так оно будет. Да и никому это, по существу, не нужно. От лукавого это.
Зато нужна община, что «обитала в глинистых каньонах, а не около реки». И Т.Н. рассказывает, что герой – Сломанная Челюсть – «не сумел правильно и незаметно сойти на берег — под ногами плеснуло», а баркас, что высадил его, «тотчас отошёл, вспенив веслами воду вдоль левого борта». Но в чём смысл незаметного схождения, если тот же командир увидел, как герой с воды «переложил топор из одной руки в другую там, на берегу»? В чём смысл «бесшумности», если у тебя за спиной баркас с гребцами, а «из-за светящейся за спиной реки [сам – Э.Ц.] Сломанная Челюсть был хорошо заметен»? Зачем делать героя таким глупым? Для контраста?
Но в чём контраст между персонажами, если и «дикарь», и «космонавт» – одинаковые болваны? Они друг друга стоят. Умных там нет. Ведь «человек с неба», которого прислала «исследовательская группа Академии Наук» – мягок, нежен, узколоб, не имеет при себе какого-нибудь серьёзного оружия и даже ругается, как дошкольник.
И в «Челюсти» автор подтверждает это. Тут тебе и «я на такое не подписывался», и «я не убийца, вы меня не заставите», и «не мелите чушь [...] мне плевать», и «она так опасна? [это о нейтронной звезде, под боком которой он тоже был, если что – Э.Ц.] Меня предупреждали, что на грунте мне понадобится убежище», и «сукин ты… кот», как вишенка на торте.
Бенуа – тот самый член исследовательской группы Академии Наук – «высок, но худ, если не сказать — хрупок. Узкие плечи выдавали недостаток физической силы, но двигался он уверенно, не таясь». Иными словами – хлюпик. И это всё спускается на парашюте, – а на нём есть «пара ремней, толстых и очень прочных на вид», что были продеты «в металлические проушины, будто чужака спустили на них с самого неба», – на суперземлю. Бенуа не знает, а через него, ничего не знает и эта самая Академия, про то, что местные всё-таки знают про мир, где живут. Бенуа – просто ребёнок, дитя изнеженного мира, через которого автор показывает другой путь развития. Вот только развития там нет.
И да, Т.Н. совмещает двух героев из разных миров в одной норе. Но нет, между ними нет контраста. Ведь это два ребёнка. «Сыны женщин».
И пусть один из них хромой и кривой, а второй пришёл с неба – это ничего не меняет. Персонажи не работают друг на друга. С их помощью Т.Н. не может раскрыть свою основную идею. И он не смог.
Хотя в его руках были все козыри.
Вот что может быть лучше для самого исследования смерти, когда у тебя есть планета-зомби, что обращается вокруг лихо закрученного трупа взорвавшейся звезды?
Вот что может быть лучше для исследования жизни, – что зародилась на планете-зомби, которая сама является напоминанием о том, что даже звёзды смертны, – когда у тебя под рукой есть всё нужное для воссоздания инопланетного «ландшафта страха»?
Вот что может быть лучше для исследования смерти, – где на самом деле исследуют жизнь, что вышла из смерти, – на фоне оканчивающегося, а, может, только начинающегося глобального вымирания там, где эта самая жизнь, что зародилась на планете-зомби, проходит точно такие же эволюционные зигзаги, что и остальные жизни, которые всё ещё живут на «живых планетах»?
Конечно же исследование того, как, и за что, человеки будут бить себя по голове дубиной!
А всё потому, что Т.Н. взялся за исследование природы ненависти. Но вместо истории, где живое убивает живое под мёртвым солнцем за те скупые ресурсы, – из которых и возможно будет воспроизвести ту самую жизнь, какая раз за разом умирает при паломничествах, – автор решил поиграться с фантастическим допущением и установил, что его люди ненавидят других людей не потому, что те – люди, а потому, что так пал жребий.
И это неплохо. И спасибо автору за то, что не пал в ноги «Жидам города Питера» и не сделал оммаж на «излучатели», прикрывшись альвеновскими волнами. Потому, что в мире есть множество произведений, где жребий решает судьбы. И тут нечего стесняться. Благо Т.Н. писать умеет, он отлично владеет словом. И даже редкая канцелярская речь, где «куда легче уменьшать численность тех, к кому мы чувствуем ненависть» или моментов, когда «не вели бой из огнестрельного оружия», не портит общего впечатления.
Как не портит его и описанные выше физические, химические, ни астрономические ляпы. Ни сам принцип передачи ненависти.
Потому, что это всё не важно. Хотя и существенно.
Ведь проблема «Челюсти» не в этом.
Проблема текста в том, что в работе, претендующей на исследование самой природы ненависти – нет настоящей концовки. Но есть выдуманная. Но выдуманная не в плане «так было», а в плане «так надо». Это чистый «позднесоветский» конструкт, когда понакупившие «бубльгума» творцы искренне пытались осмыслить грядущие перемены, но искали не где надо, а под фонарём.
И из-за этого концовка «Челюсти» – выхолощена и беззуба. Она не ведёт ни к чему существенному, но вместе с этим, для читателя, представляется трагичной. Хотя в ней нет ни трагедии, ни даже комедии. Одна пустота фантастического замещения. Попытка оправдать и оправдаться. Прикрыться смертью.
Герой бы и так умер. «Ты вряд ли убьёшь кого-то в своём паломничестве и вряд ли из него вернёшься [...] ты движешься слишком медленно [...] ты не способен сражаться и не сможешь убежать… не сможешь запутать своих преследователей» – об этом говорит командир баркаса. Да и сам герой понимает, что он и так уже мертвец, ведь «калека не годится для погони и его паломничество было пустой затеей». Но дать ему умереть по-настоящему – сложно. Сложно и трудно. Ведь для этого придётся отказаться, как от въевшейся в мозг концепции «недеяния», когда смотреть лучше, чем не смотреть. Так и от, упаси Господь, практики «прогрессорства», когда несвоевременные действия оборачиваются непросчитываемыми бедами.
Нужно отказаться от яда стругацковщины, ефремовщины и прочего фантастического мрака, где идеализм прикрывается маской истории. Но и не свалиться к философам гнили, что считают «динамику слизи» откровением, этаким псевдохристианским антикрестом, оберегом против антропоцентризма.
Надо пройти над пропастью, и не упасть.
Да, Т.Н. проговорился, что в будущем планирует расширить вселенную «Челюсти», выполнить эту большую историю, как целый цикл рассказов. Но дожимать до конца надо было уже вчера.
Ведь если уж убивать, то по-настоящему! Как Сломанная Челюсть всегда хотел убивать врагов. Тех, к кому он чувствует ненависть. И если бы это было взаправду. И если бы Т.Н, не побоялся – то дал бы умереть герою, как он того хочет. Ведь воспитанный воином никогда бы не отрёкся от предков и Обычаев ради чужака и чужой морали. И даже в смерти – и смертью – доказал бы, что третьего не дано.
Но... Этого не случилось.
И остаётся лишь кричать. Кричать и надеяться на лучшее.
Иначе авторы так и будут заканчивать свои рассказы фразами «А мы за это нассали под дверь их капитанской каюты».
Обидно.
Программная литература:
* Patruno, Antonia & Kama, Mike. (2017). Neutron Star Planets: Atmospheric processes and habitability.
* Patruno, Antonia & Kama, Mike. (2017). Neutron Star Planets: Atmospheric processes and irradiation. Astronomy & Astrophysics. 608. 10.1051/0004-6361/201731102.
* Mishra, Ruchi & Cemeljic, Miljenko & Varela, Jacobo & Falanga, Maurizio. (2023). Auroras on Planets around Pulsars. The Astrophysical Journal Letters. 959. L13. 10.3847/2041-8213/ad0f1f.
* Tuchow, Noah & Wright, Jason. (2023). The Abundance of Belatedly Habitable Planets and Ambiguities in Definitions of the Continuously Habitable Zone. The Astrophysical Journal. 944. 71. 10.3847/1538-4357/acb054.
* Martin, Rebecca & Livio, Mario & Palaniswamy, Divya. (2016). Why are pulsar planets rare?. The Astrophysical Journal. 832. 10.3847/0004-637X/832/2/122.
* Potapov, Vladimir & Andrianov, Stepan. (2024). Testing the Hypothesis about the Existence of a Planet Orbiting the Pulsar B0329+54 (J0332+5434). Astronomy Letters. 49. 547-552. 10.1134/S1063773723100067.
* Kaspi, Victoria. (2010). Grand Unification in Neutron Stars. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 107. 7147-52. 10.1073/pnas.1000812107.
* Kaspi, Victoria. (2017). The Neutron Star Zoo. Proceedings of the International Astronomical Union. 13. 3-8. 10.1017/S1743921317010390.
* Lewis, Karen & Sackett, Penny & Mardling, Rosemary. (2008). Possibility of Detecting Moons of Pulsar Planets Through Time-of-Arrival Analysis. ApJ. 685. 10.1086/592743.
* Yadav, Shubham & Mishra, Madhukar & Sarkar, Tapomoy. (2024). X-ray emission spectrum for axion-photon conversion in magnetospheres of strongly magnetized neutron stars. 10.13140/RG.2.2.21095.66728.
* Sullivan, Andrew & Alves, Lucas & Spence, Georgina & Leite, Isabella & Veske, Doğa & Bartos, Imre & Marka, Zsuzsa & Márka, Szabolcs. (2022). Multi-messenger Emission from Tidal Waves in Neutron Star Oceans. 10.48550/arXiv.2205.13541.
* Gonzalez-Caniulef, Denis. (2019). Thermal emission from magnetised neutron stars.
* Paul, Avik & Majumdar, Debasish & Modak, Kamakshya. (2018). Neutron Star Cooling via Axion Emission by Nucleon-Nucleon Axion Bremsstrahlung. Pramana. 92. 10.1007/s12043-018-1702-2.
* Foster, R.S. & Edelstein, Jerry & Bowyer, Stuart. (1996). Extreme Ultraviolet Emission from Neutron Stars. International Astronomical Union Colloquium. 152. 437-442. 10.1017/S0252921100036356.
* Laundre, John & Hernández, Lucina & Medina, Perla & Campanella, Andrea & López-Portillo, Jorge & González-Romero, Alberto & Grajales Tam, Karina Magdalena & Burke, Anna & Gronemeyer, Peg & Browning, Dawn. (2014). The landscape of fear: The missing link to understand top-down and bottom-up controls of prey abundance?. Ecology. 95. 1141-1152. 10.1890/13-1083.1.
* Gekelman, Walter & Vincena, Stephen & Van Compernolle, Bart & Morales, Gabriel & Maggs, J. & Pribyl, P. & Carter, Troy. (2011). The many faces of shear Alfvén waves. Physics of Plasmas. 18. 055501. 10.1063/1.3592210.
