Рецензия на роман «Белый Север. 1918»
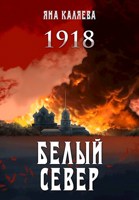
Предисловие.
"Рецензия на книгу — это критический отзыв, содержащий в себе замечания, предложения и советы рецензента" - такое определение предлагается в первой строке результатов поиска. Замечать, предлагать и советовать - не право, а обязанность рецензента. При этом, я не могу научить писать книгу, я могу лишь рассказать о предпочтениях себя-читателя, своём желании произведение видеть таким, будто его писали Булгаков, Шолохов, Пастернак, Горький и Куприн в разных фрагментах; показать, чего и где мне для этого не хватило. Однако, себя я не полагаю будто Луначарским - заранее признаю дискуссионность любых собственных соображений. Они предназначены автору, не имеют других целей, кроме как стать пищей для размышления, они не претендуют на менторство.
Хочу так же выразить благодарность автору уже за то, что смог узнать много нового и интересного о событиях в истории Родины, о которых не знал ранее, лишний раз вернуться к осмыслению причин и следствий событий 1917 года и мыслям о цикличности истории.
* * *
Роман-эпопея и законы жанра.
"Белый Север. 1918" - роман-эпопея, то есть настоящим его главным героем является сама эпоха событий и перемен - увиденных, пережитых попаданцем Максимом, встретившим свой Грузовик-сан.
Для того, чтобы роман о событиях прошлого вызвал интерес и эмоциональный отклик читателя...
... он должен ясно ассоциироваться с чем-то злободневным - по-настоящему волнующим читателя сегодня. В то же время сильный эмоциональный отклик всегда приходит в ответ на выраженные социальных противоречий - когда разные общественные группы сталкиваются в критическом конфликте, диктуемом не чьими-то конкретными личными амбициями, но разными этих групп ценностями, интересами, условиями, целями, средствами, правилами и внутренней логикой их поведения.
Личные проблемы на то и личные, что их можно избегать или решать единоличными действиями. Единоличному герою всегда проще отказать в сочувствии, потому что сам дурак. Потому, личные конфликты - это удел нишевых жанров, как "боярь-аниме", или как сериалы для домохозяек.
Сопереживание читателя (зрителя) вызывается драматическим трюком - последовательностью из:
- экспозиции (описания исходной сцены),
- завязки конфликта,
- действий героев в логике конфликта,
- кульминации (высшей точкой эмоционального напряжения)
- и финальной развязки с разрядкой.
В идеале - герой в финале переживают метанойю - полностью переосмысливает ценности и себя, либо находит неочевидный сценарий разрешения конфликта. Конфликт без разрешения, или действия без конфликта в любом романе (повести, рассказе, пьесе) без исключений снижают его ценность. Драматический канон исполняли и Гомер, и Шекспир, хотя творили задолго до появления его формулировок - они что-то чувствовали сами.
В романе должна присутствовать как сквозная драма, начинающаяся и заканчивающаяся вместе с романом, так и цепочка менее обязательных "маленьких драм" - не только в частях или главах, но даже и в отдельных эпизодах. Отказ от драматургии ведёт к снижению выразительности и литературной ценности произведения, а читателю может наскучить чтение: если интрига не ведёт читателя, тот может просто не захотеть открывать следующую главу.
В эпопеях встречается приём, когда целостная логика событий наблюдается только для всего общества сразу, тогда как отдельные герои участвуют лишь в разрозненных событиях. В этом случае через драму по всем пунктам плана должно пройти всё общество, завязка и развязка наблюдаться в большом масштабе. Для главных героев такое произведение нередко оказывается трагедией.
Итак, где же в нашем случае завязывается основной конфликт романа? Максим приступает к каким-то активным действиям лишь после сцены c Марией и латышскими стрелками в пятой главе, других кандидатов в завязки не видно. Пять глав - это уже слишком много для экспозиции, но и здесь нет эмоционального вовлечения ни героя, ни читателя. Мария очень быстро из активной игроков выбывает, а читателя снова бросают безучастным - непонятно, какую проблему решать, кому и в чём сочувствовать. Возможно такова и была задумка автора: создать не роман, а цикл очерков - без жанровых обязательств. Удачное ли это решение? Уверен - нет. На этом материале можно было построить цикл полносюжетных рассказов и повестей, выстроенных в хронологическом порядке, Максим лишь в части из них мог быть главным героем. Можно было бы вовлечь читателя в соучастие нескольким разным судьбам - сила воздействия на эмоции была бы на совершенно другом уровне.
Если уж Максим оказался попаданцем, то он просто обязан искать и находить аналогии между событиями двух своих современностей - это должно стимулировать нейроны читателя, а иначе попаданчество - лишняя сущность.
И ещё вот что. Историческая достоверность как вещь в себе уже является выразительным средством и художественной ценностью. Можно вспомнить "Фильм про Штирлица", как в кадре печатаются документы, голос за кадром читает официальные досье - это всё заставляло зрителя больше верить происходящему. В комментариях к произведению неоднократно указывалось, что желательны были бы сноски в тексте с указанием источников, достоверности или отклонений от достоверности событий. Я же добавлю, что такие сноски имели бы не только справочно-методическую, но и художественную, и эмоциональную ценность!
Об эпизодах и действующих лицах.
Если бы столкновению в пятой главе предшествовала история с Марией в главной роли и с раскрытием её мотивации - всё последующее повествование в этом контексте бы выглядело ярче. В конце произведения Мария переживает истинную метанойю - такая личная драма, оставленная на самотёк, выглядит упущенной возможностью - эту историю нужно было рассказать полностью и обособлено.
Однако, завязывать главный конфликт для Максима стоило раньше - вовлечь его в проблемы людей Михи, а не оставлять того побочным мешающим героем. Угроза голода и невозможность решить проблему своими силами - сильнейший мотив, двигающий стоящими за Михой людьми. Огромное упущение, что главное действующее лицо эпохи - народ - представлено в романе-эпопее одним лишь Михой, да и тем лишь в роли вечного просителя, сбоку стоящего. А ведь именно неспособность белого движения найти точки слияния с главным в стране действующим лицом и определила его ненужность. Эмоционально Максиму стоило быть с Михой и народом с самых первых глав, там должна была произойти завязка его личного и главного в книге конфликта. В какой-то момент он должен был бы сказать, что никакие разноцветные не близки им, нет. Кульминацией должен был стать вынужденный расстрел бунтовщиков, а финальной развязкой - последний диалог с Чайковским о недееспособности и бесполезности, ненужности их никому кроме себя. Их ложное чувство элитарности, их "заграница нам поможет" и их последующий исход попаданец мог бы сопоставить с некоторыми людьми и погранпереходами современности.
Роль самого Максима в происходящем слишком активна, для того чтобы считать его пассивным наблюдателем - это не Живаго. С одной стороны он является той самой личностью, которая постоянно разворачивает историю, с другой - между разворотами он остаётся незначительным исполнителем в иерархии действующих лиц. Решительные в поворотные моменты люди должны приходить к власти и становиться центрами принятия решений покуда живы, но здесь почему-то не так. Это выглядит странно как рояль.
Рассказ про Настю в качестве главного героя мог дополнить картину эпохи. В романе это было бы, наверно, лишним, но в цикле из малых форм он мог бы занять своё место.
Точно отдельного рассказа был достоин Чаплин - его мотивы и планы во многом остались неясны. Тупиковость офицерского белого движения прекрасно проиллюстрировал бы рассказ про ищущих сюзерена, но играющих в престолы рыцарей.
И, конечно же, целая повесть могла быть посвящена походу на Усть-Цильму. Завязка - на яме с трупами, как и было. Действие - визит на выселки. Кульминация и развязка - последующий разговор со старостой и деревенским истеблишментом. Разговор обещал быть концептуальным, ярким и тяжелым. Он должен был худо, но примирить белых и красных в одной деревне. Ведь столько есть вариантов, чего можно было бы сказать эти кулакам... Жаль, что в тексте этот эпизод был просто упомянут вскользь, это - литературное преступление, так вижу.
Картина власти.
Правительство Чайковского было представлено как чайный клуб, который вообще ничего не делает, ничего не решает, ничем не управляет. В гиперболической форме, возможно, так и было, но фактически так быть не могло. Очень не хватало нескольких штрихов для достоверности. У власти должен быть какой-то силовой ресурс, какой-то бюджет, какие-то функции распределения продовольствия хотя бы по социальным и бюджетным объектам.
Вывод.
Произведение содержит большого объема исторический материал. А история - прекрасный материал для творчества. Огромная благодарность и низкий поклон автору, который перевёл архивный язык на человеческий и в художественной форме! Такого рода свидетельства эпохи могут иметь большую методическую ценность, чем архивные документы. Ведь о Крымской войне мы больше знаем по произведениям Л. Н. Толстого, чем из учебников. Да и про войну 1812 года - от него же, хотя он и не был её очевидцем. То что я высказался критически и неуклюже - дисклеймеры в самом начале. В тексте есть ряд упущенных возможностей, однако это значит лишь, что автору будет несложно "поймать" подобные в будущем и встать на ступеньку выше, а я с радостью прочту новое произведение! Да и сравнение с лигой писателей из предисловия, надеюсь, не оскорбит никого :)
