Рецензия на сборник поэзии «Мир снаружи и внутри»
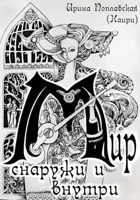
«Проникновенно, безыскусно, нежно – печаль светла, жизнь соткана любовью»
Ощущения от стихов Наири именно таковы. По сути, это история жизни, рассказанная в форме стихов, поэтический дневник, где отмечены и события, значимые по меркам каждого – расставания с дорогими людьми, важные решения, встречи и потери – но также и лёгкие, как крыло бабочки, впечатления от мелькающей в течении дней красоты. Лирическая героиня поистине живёт в поэзии, воспринимая сквозь её призму всё, что происходит с нею, и всех, с кем происходит она. В этом нет ни капли самолюбования, ни намёка на претенциозность – эти стихи просты и милы, как полевые цветы. Но в них столько искренности и глубокого чувства, что порой я едва удерживался от слёз. Печаль… возможно, поэзия печальна всегда, в её сути отнюдь не покой, а душевные волнения, потрясения, которые мы выплёскиваем в рифмованные строки. Но здесь печаль наполнена какой-то очень тёплой открытостью миру, добротой, которая не выцвела, несмотря на трудности жизненного пути героини.
По форме стихи Наири довольно просты; тут смысл и настроение довлеют над стилистикой. Часто они напоминают песни, и я не удивлюсь, если они создавались под слышную лишь поэту музыку.
Улечу я вслед за птицей
Далеко, туда, где ветер
Поутру ласкает море
Свежей ласковой рукою,
Там приветливые лица,
Там сильнее солнце светит,
Не знакомы люди с горем,
Лишь с любовью и покоем.
Облаков пушистых гряды
Снег холодный не приносят,
Только дождик крыши гладит,
Ярче делает листву.
Там со мною будут рядом
Все, кто позабыл и бросил,
Мы обнимемся и сядем
В изумрудную траву…
Знаю, нет туда дороги,
Ни пешком, ни как иначе,
И не станет грёза былью,
Как бы сильно не хотеть,
И стою я на пороге,
Ввысь смотрю и молча плачу –
Не могу расправить крылья
И за птицей улететь.
Первой ассоциацией была «Песнь о Гайавате» – такая же напевная и глубокая, по форме и содержанию, в своей кажущейся простоте:
Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забываетесь порою
На запущенном погосте
И читаете в раздумье
На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры, —
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!
Хотя эти произведения на самом деле написаны разным метром – в частности, стихи Наири содержат четыре строки, завершённые ударным слогом, – но думаю, сходство звучания очевидно. И полагаю, «Улечу я вслед за птицей» тоже вполне заслуживает того, чтобы зваться «песнью», хотя и короткой. А потом, кажется мне, что эти строки Лонгфелло каким-то образом гармонируют с настроением короткой песни Наири – и в общем, всем её сборником.
Песня содержит чередование созвучий двух типов: мягких и распевных «л»: улечу, далеко, ласкает, любовью, гладит, листву – и окончательного, твёрдого «р»: ветер, море, горем, бросил, траву – и их сочетание создаёт удивительный эффект: плавное течение дней и неизбежность их финала, безмятежная прелесть мира мечтаний – и проза реальности.
И особенную пронзительность и чёткость донесения идеи создаёт цикличность: первая строка «Улечу я вслед за птицей» резонирует с последней: «И за птицей улететь». И хотя лирическая героиня подчёркивает, что прекрасным мечтаниям не сбыться, они лишь в мире её воображения – но структура песни и выбор ударного слога в последней строке неявно намекают, что на самом деле реальность сложнее, чем может показаться, и именно «улететь» героине предстоит, и она ощущает это.
Интересен также рефрен темы воды – во всех её состояниях, физических и символических, – струящейся по строкам. Сперва мы видим море, традиционную аллегорию бескрайности и свободы, стремления к неизвестности за горизонтом. Затем упоминается отсутствующий снег (и всё-таки в мысленной картине лирической героини он есть) и его антитеза – дождик, гладящий крыши. И завершается всё это ещё одной ипостасью воды – слезами. И безнадёжное «молча плачу», казалось бы, говорящее о крахе мечты, – в то же время возвращает нас в начало, к другой солёной воде – морю. Тут, как и с образом «за птицей улететь», мы видим цикличность метафоры – и внезапную тему надежды, опровергающую первый, более явный смысл стихотворения.
Созданы ли эти эффекты осознанно, вложен ли увиденный мною подтекст или проник между строк из подсознания (а может, души) поэта? Вопрос интересный. Но полагаю, важнее результат – сами стихи, вызывающие сопричастность, печаль, глубокую тоску по далёкому счастью и скрытую в переливах слов потаённую надежду.
Мне бы хотелось поговорить и о других стихах, которые произвели сильное впечатление (а это едва ли не все). Однако лучше я просто кое-что процитирую – в конце концов, ничто не говорит о поэзии красноречивее, нежели сама поэзия.
Пряжи намокшей нити
Дождь намотал на ветки.
…
Кончилось лето сразу –
В осень с трапа шагнула,
А вдалеке сверкнуло
Море в цвет хризопраза…
_ _ _
Движенье чувств, движенье наших тел…
С недавних пор мы стали в них едины.
И то не сумрак в души к нам слетел,
А отголосок прежних дней пустынных.
Слились в одну свечу, и не нарушь
Случайным жестом это единенье.
Слиянье наших тел, слиянье душ –
Ни слова, ни намёка, ни сомненья…
Ещё один момент хотелось бы отметить: стихи Наири самобытны и не кажутся отголосками чьих-то мотивов (хотя порой у поэтов это происходит неосознанно) – и тем не менее, читая сборник, я постоянно вспоминал что-то иное: кроме уже упомянутой «Песни о Гайавате», в памяти то и дело всплывали осколки строк Хименеса – и мне кажется, сходство тут на том же уровне, что и у первой песни с Лонгфелло: сходство переживаний, восприятия, умение замечать те же моменты непрочной красоты мира.
Я вернулся в родные пенаты, знакомые
С позабытых годов босоногого детства,
С замиранием сердца иду, в горле с комом я,
Вот и дом, и река, что течёт по соседству.
Вы скучали по мне, купола, переулочки,
И деревья, которые стали чуть ниже?
И пекарня, где самые вкусные булочки,
И пригорок, где встал я впервые на лыжи?
Где носило меня, с кем делился печалями,
Если здесь меня ждали соборы и храмы,
И река с дорогими для сердца причалами,
И столы, что накрыты у папы и мамы…
Невольно приходят на ум другие строки:
Когда я был дитя и бог, Могер был не селеньем скромным,
а белым чудом — вне времён — сияющим, огромным…
Всё на своих местах — вода, земля и небосклон,
церквушка — дивный храм, домишки — светлые хоромы,
и я, сквозь виноград, с весёлым псом несусь тропой укромной,
и мы, как ветер, невесомы, беспечны, словно громы,
и детства мир от мира горизонтом отделён.
На мой взгляд, когда стихи вызывают в памяти другие стихи, рождается связь времён – связь и единство разных на первый взгляд, но одинаковых по сути нас. Та связь, то единство, о котором писал Джон Донн в знаменитой проповеди:
«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством…»
Мне представляется, что лучше всего, яснее всего это единство показывает нам именно поэзия. Мы, дети двадцать первого века, чувствуем и говорим в своих стихах то же, что поэты дальних стран много веков назад; нас тревожат те же печали, мы так же тоскуем по светлым далям небес и дням беззаботного детства… так же любим – живых людей, а порой не менее глубоко задевают нас судьбы героев книг:
И грянул гром, и тьма накрыла город,
И от садов, дворцов, мостов и арок,
Осталась тень одна, как будто морок,
Как будто не был день над ними ярок.
Пруды, базары, караван-сараи –
Исчезло всё… Ершалаим пропал,
Лишь вдаль уходит лунная тропа…
И чтобы не процитировать уже весь сборник, лишив читателей удовольствия совершить это странствие самим, покажу ещё лишь одно стихотворение – то, с которого началось моё знакомство с поэзией Наири:
Памяти В. С. Высоцкого. 25 июля 1979
Многоликая, пёстрая Бухара –
Жизнь бурлит, в ожиданьи кипят базары.
Угасают на сцене прожектора,
Беспощадна жара, словно божья кара.
На пределе – хрип по горлу струной,
И неважно, чем ты мозг одурманишь.
Можно всем солгать непомерной ценой,
Но себя ты навряд ли обманешь.
Чёрный ангел отсрочил встречу на год,
В сердце воткнут иглы раскалённый вертел,
Включен таймер. Пошёл обратный отсчёт.
Генеральная репетиция смерти.
По-моему, сказать что-то ещё невозможно, не повторившись. Разве что, по традиции, отмечу обложку сборника: стилизованная под иллюстрации старых рыцарских романов, она изображает даму, играющую на лютне. За её спиной – клетка с соловьём, стремящимся на свободу, а также юная пара под деревом – не намёк ли на ту самую знаменитую яблоню? И хотя на даме роскошный наряд, но взгляд её печален… а может, на ней и вовсе маска? Мне кажется, что эта любительская обложка, несмотря на огрехи рисунка, по сути отлично подходит сборнику. Как и название.
