Рецензия на роман «Последний ветеран»
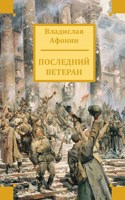
Если перед вашими глазами мелькают разрядами молнии рельефные картинки, складывающиеся в стремительную киноленту...
Если вы при этом слышите все звуки — от слабого стрекота сверчка до громового пушечного залпа...
Если вы чувствуете и легкий аромат полевых цветов, и въедливый смрад сгоревших заживо тел...
Если вы воспринимаете описанный автором мир еще и вкусовыми рецепторами, а также — ощущаете его каждой клеточкой кожи...
Значит, вы тоже читаете роман Владислава Афонина «Последний ветеран». И я вас поздравляю: сделали верный выбор!
Сюжет.
Профессор Преображенский изобретает капсулу с криогеном. Она всего одна, и потому нелепо было бы идею вечной жизни «похоронить» для потомков, заморозив рядового гражданина, имеющего преимущество перед другими разве что в толщине своего кошелька. К выбору «счастливчика» хотелось бы подойти как можно тщательней! И в поле зрения ученого и его ассистента Романа попадает старенький ветеран, увешенный орденами, среди которых — медаль Героя Советского Союза. Скорее всего, это и есть последний участник Второй мировой и Великой Отечественной войны. И ученые знакомятся со стариком.
Сюжет построен в трех плоскостях (а может, и больше — об этом чуть позже!). В первую очередь, это рассказ ветерана, причем, глазами не сегодняшнего старика, а молодого бойца. Поэтому автор с такой легкостью погружает нас в атмосферу прошлого, и мы наблюдаем за происходящим как будто бы изнутри. Во вторую очередь, это взгляд на прошлое глазами постаревшего бойца, а также обсуждение минувших событий ветераном и учеными. И в третью очередь, это авторская речь, грамотная и аргументированная, отвечающая требованиям публицистики.
Внешний мир.
Он очень многогранен. Сочный и выпуклый, обжигающий фантастическим реализмом. И автор построил его таким образом, чтобы наше сенсорное восприятие полностью подчинялось созданию этой картины! Здесь есть все: от сложного рельефа местности, где ведется панорамный бой, до рюмки мутного самогона; от запутанных переходов в сталинских высотках до зажатого узкого пространства — смрадного подвала с бомжами; от бесчисленного количества смертей на ратном поле боя до детской руки, торчащей из кастрюли...
Описания этого мира хочется перечитывать и перечитывать. Вот, например, что сказал автор о зиме:
Никто не собирался спорить с этой вечной зимой, наглой и жестокой старухой, кровь которой в незапамятные времена превратилась в багровую густую жижу, а сердце — в потухшую алую льдину. Это было ее время, это было ее место. Страшная королева правила свой скупой и чудовищный бал. Вечная зима застряла в душах русских людей, и не было предела ее ужасному царствованию.
А это — о Москве:
Москва была подобна растению с глубокими корнями: можно было уничтожить вершок и вытоптать верхний слой земли, где он прорастал, но молодой стебель всегда пробивался снова вверх, навстречу солнцу.
А здесь — о том месте, где находился герой:
Часто керосинки заполнялись грубыми самодельными факелами, вставленными куда попало. Они отбрасывали причудливые, зловещие тени. Пахло сыростью, везде было влажно: сапоги... скользили на мокрой плитке, стыки которой покрылись черным грибком. Кое-где и она осыпалась, обнажая вонючую, сильно пачкаюшую и... крошашуюся землю.
Описание вооружения и ведения боя — тема отдельная.
Роман соответствует обозначенным жанрам: историческая проза, современная проза, боевик. Сражений много, и много смертей, ведь автор не случайно называет войну «самой кровавой бойней двадцатого века». И потому, что наш главный герой участвовал не в одной битве: и под Москвой, и в блокадном Ленинграде, и под Сталинградом, и на Украине — дошел до Берлина.
Учитывая то, что нынешний рецензент — с косами (правда, не блондинка, а шатенка!), не берусь судить о правильности названий военного вооружения, но подтверждаю как на духу, что «проглатывала» эти сцены живьем, читала не дыша. До того забывалась, что голова начинала кружиться от нехватки кислорода.
Поражаюсь, с какой тщательностью выписывал автор боевые действия! Он словно наводил камеру на поле боя с нескольких ракурсов: сверху, сбоку, издалека, показывая панораму, а затем — приближаясь вплотную к одному бойцу. А насколько интересны описания характера боевых машин: иногда — покладистость, умение подчиняться хозяину, а порой — их свободолюбивый и даже жестокий нрав. Оказывается, у каждого «бронированного монстра» есть и голос, по которому можно судить о нраве. Там — «Тигр» запалил из пулемета, здесь — кто-то шмальнул из пушки, а вот здесь танк замолчал, и «изнутри его, как черви из гнилого яблока, полезли танкисты».
Герои.
Их тоже много. Есть герои первого, второго, третьего плана. Но все они — яркие, запоминающиеся, стоят перед глазами до сих пор и будут стоять всегда. Просто так от них не избавишься. Среди них и те, кто отдал свои жизни во имя... и те, кто погиб по чистой случайности и даже — из-за диверсий. И бойцы, воюющие за правое дело, и недалекие служители правопорядка, и жестокие, чересчур «правильные» служаки органов безопасности, и бомжи, опустившиеся на самое дно, но не ступившие на путь преступления, в отличие от «добропорядочных граждан». В каких-то случаях бомжи достигают превосходства над последними.
В романе много негатива, грязи, тяжелых и несправедливых смертей, страшно читать о том, как люди едят крыс, но еще страшнее — своих детей. Вот почему здесь ярлык «+18»! Грубые сцены сексуального насилия ищите в других романах!
Есть и современные герои — мажоры на навороченном «гелендвагене» и наглые, зажравшиеся мигранты. Нелепо выглядят и те, и эти на фоне той мясорубки, в которой оказались миллионы советских людей. Но — они есть, как есть бородавки на теле.
Ветеран Станислав Богатырёв — в особом списке у всевышних сил: он видел столько смертей! Образ яркий. Подкупает правдивостью, я бы сказала — типичностью. Но... такой ли участи заслуживает ветеран, чтобы существовать, оставшись один-одинешенек, пережив и детей, которых выплеснула жизненная волна за границу, и жену. А обстановка в его квартирке, сами знаете... Так что грустно и больно. Писать о нем рука не поднимается. Читайте сами.
Его невеста Катя попала в жернова ГУЛАГа. И лишь стечение обстоятельств (а это и есть судьба!) помогло ей не только выжить, но и забыть о страшном прошлом. Тоже говорить о ней — страшно и больно. Разве предназначение женщины в том, чтобы, еще не распустившись из бутона, получить нелепое троцкистское клеймо и загнивать в изоляции от общества?
Автор лепит образ каждого героя. Очень тщательно. Как художник, сделав несколько мазков, отходит в сторону, присматривается, затем добавляет новые. Вот, например, что он говорит об одном воине, Аркадии Ломаченко:
Украинец отпал к земле, тело его конвульсивно дёрнулось и замерло навсегда. Потухшие зеленые глаза уставились в далекий небосвод. Таким он его видел задолго до смерти, гуляя мальчишкой по залитым солнцем степям Донбасса. Казалось, теперь там, среди бескрайних набежавших облаков, уже гуляет душа храброго славянского воителя.
Всего несколько строк, а мы уже столько знаем о нем!
А это — портрет каннибала:
Только щеки ввалились и глаза были какими-то хрустальными, нечеловеческими. Они горели отчаяньем и обреченностью. Бледнота кожи выдавала ходячий труп. Его душа высохла, словно столетний дуб на отравленной и обедневшей недавно земле.
А мальчишка-блокадник, которому бойцы отдали свои пайки на неделю вперед, выживет и станет академиком! Хоть один росточек на вымерзшей, бесплодной почве!
Стиль и язык.
Как уже сказала, есть художественный, а есть — публицистический, приближенный к художественному. Они даже оформлены по-разному: в публицистике нелепо бы смотрелись цифры прописью (а их очень много!) и еще более нелепо бы читались привычные нам слова о патриотизме, перекроенные на новый, «разговорный», лад. Однако стили сосуществуют, не разрывая текст на клочки, сохраняя его фундаментальную незыблемость.
И вот здесь самое время вспомнить еще об одной плоскости построения сюжета, ведь это сделано благодаря языку. Я имею в виду подстрочный текст. Далеко не каждый автор владеет техникой слова настолько, чтобы легкой пунктирной линией, не делая акцента на мысли, вдолбить ее, однако, в голову читателя. Несколько таких эпизодов мне встретились в этом романе. Например, когда наши герои делали обыск в квартире каннибала, в другой комнате явно были останки мальчика. Мы их не видели, потому что автор не поставил там «камеру», но мы точно знаем, что там были следы преступления хозяев квартиры.
Встречаются очень громоздкие абзацы, как кирпичи. Может, это издержки форматирования? Они утяжеляют текст. Можно было бы немного и облегчить.
Текст довольно чистый, чувствуется авторское терпение и трудолюбие. Встретились несколько стилистических шероховатостей, связанных в основном с повторами (глаголы, которым можно было бы подобрать синонимы) и формами «-тся» — «-ться», а также опечатки. И то только потому, что мой глаз, в силу своих профессиональных обязанностей, цепляет даже там, где, казалось бы, гладкость идеальная. Да, в восьмой главе Катя погружается в царство Морфия — все-таки, Морфея!
В целом стиль выдержан, ровный, диалоги, описания и повествование не воюют друг с другом, а «работают» на одну цель: раскрыть идею романа.
Тема. Идея.
Тема бессмертия человека показана в двух временных плоскостях. Первый — военное время, когда жизнь человека ничего не значит, когда она сгорает как мотыльки, прилетевшие на свет. (Стоит перед глазами судьба одной простой русской женщины из глухой кубанской станицы, о которой я когда-то писала. У нее погибли на войне девять (!) сыновей. Это к теме «пушечного мяса»). Вторая плоскость — настоящее время. Не буду раскрывать финал, каждый читатель должен дойти до него сам. Но можно и самому ответить на вопрос: нужна ли капсула «бессмертия» ветерану, пережившему не просто личную драму, не просто удар судьбы, а — крушение мировоззрения? Ведь, мужая на войне, он не просто стал старше и получил житейскую мудрость, но и многое пересмотрел в своих взглядах.
Идея просачивается и сквозь авторские размышления, и через высказывания героев. Красной нитью проходит мысль о том, что война — это следствие сталинской политики. Однозначно — негативное — выражается отношение к репрессиях (девиз рабоче-крестьянского строя «Кто не с нами, тот под нами!).
Или же вот в этой фразе героя:
Дай мне револьвер с одним патроном и право уничтожить кого-либо или что-либо — я бы без раздумий сделал выстрел в систему.
И в этой — тоже:
— А толку-то уходить? — процедил пораженный. — Мы все уже давным-давно умерли. Все это вокруг нас — иллюзия, чертов театр. Мы сами прокляли наш прекрасный мир, а теперь пожинаем плоды. Сучье племя, выродки от рождения.
Отмечу еще одну ценность произведения — информационную. Автор отлично поработал с материалом и подал его в художественной форме. Так что эта книга, с одной стороны — роман, с другой — военная энциклопедия, а может, и современный учебник истории.
Об этом можно долго рассуждать. В чем-то соглашаться, с чем-то и поспорить. Факт — что автор разбередил раны, уже немного зажившие после завершения пафосного марша, так и не приведшего к «победе коммунизма».
Эта книга заставляет человека не просто радоваться или переживать вместе с героями. Она не из числа тех, которые можно захлопнуть после прочтения и выбросить из головы. Эта книга как песня — но не песня-однодневка, а суперхит. Она и после прочтения будет долго не выходить из головы и буравить мозг читателя. Конечно же, читателя, у которого этот мозг есть.
