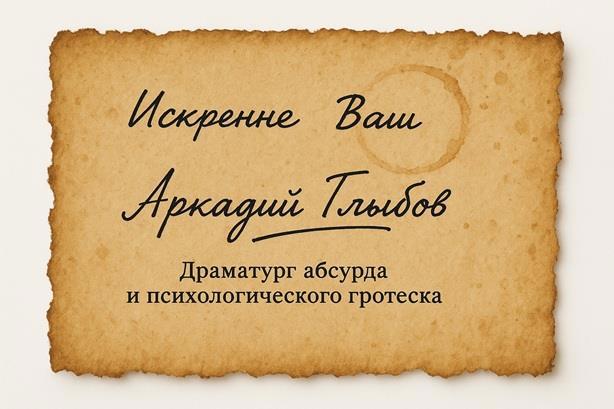Рецензия на роман «Чëрный Выброс: критическая реактивность»

Похоже, автор всерьёз решил проверить критическую реактивность мозга читателя: смешать Чернобыль, сталкерскую романтику, ядерную физику, древнюю космическую цивилизацию, плазмоидов, мысленный интернет и ещё пару сотен собственных терминов; поместить всё это в Бункер, плотно залить диалогами и телепатией, а потом невозмутимо посмотреть, кто выдержит дозу. Это не роман, а контрольный облучатель для тех, кто считал себя опытным читателем научной фантастики.
Это была шутка — не пугайтесь, это мой нормальный дефект.
На самом деле «Чëрный выброс: критическая реактивность» — редкий пример честного, тяжёлого и при этом очень человеческого научно-фантастического текста, который одновременно разговаривает с нами языком реакторных блоков и языком вины, дружбы и несбывшихся обещаний. Автор не прячется за жанровой декорацией: Чернобыль, Игналинская, сталкеры, безопасники — всё это названо прямо, без романтической дымки. Фантастический слой — Меридиан, Светлояр, даэнмор, Дети Истока — не для того, чтобы «удрать» от реальности, а чтобы показать: то, что мы называем катастрофой, для Вселенной всего лишь особый способ говорить с веществом, а для человека — особый способ говорить с собственным прошлым.
Главная сила текста — в том, что масштаб постоянно «дышит»: сцены в Бункере, переглядки с майором, упрямые решения Антона, трепетные, нелепые и очень живые разговоры с Линой и Оксаной соседствуют с космическими лекциями Гивэна о даэнмор и мыслящей плазме, с огненными океанами и рождением сверхновых. Автор не стесняется инфодампов — иногда это прям полноценные методички по устройству вымышленного Мироздания, — но почти всегда под ними проступает человеческое лицо: кто-то просто не может иначе, ему нужно объяснить, «как это всё работает», чтобы самому не сойти с ума.
Отдельно хочется отметить, как аккуратно роман работает с темой вины и несправедливости. Пролог-исповедь к Виктору Петровичу задаёт тон: да, «всё сложилось оптимальным образом», да, мир выжил и даже движется дальше, но отдельному человеку от этого не легче. Ощущение, что ты живёшь на процентах от чьей-то боли, — центральная этическая проблема книги. И ядерная терминология здесь не просто декоративный фон: «критическая реактивность» — это одновременно про реактор и про человека, который слишком долго копил в себе обиду, любовь, страх, пока всё не вылетело наружу одним разрушительным выбросом.
Персонажи, несмотря на огромное количество имён и терминов, живут: Рэй с его гремучей смесью профессионализма и внутренней усталости, Лина, у которой телепатия не отменяет человеческую неуверенность, Антон, упрямо делающий свой выбор «из личных причин», старшие инженеры и кураторы, которые уже всё понимают, но всё равно продолжают делать вид, что контролируют ситуацию. Это не героический эпос, а скорее хроника рабочих будней людей, которые однажды оказались слишком близко к тому месту, где реальность тоньше обычного.
Слабые стороны у текста тоже есть. Роман густой, как отработанное топливо: плотность терминов, фрагментов, дисков, перескакиваний между уровнями реальности может отпугнуть читателя, не готового вникать. Иногда кажется, что автору жалко выбросить хоть одну придумку, и он старается пристроить в текст всё — от шутки про «игналинские блоки в тетрадках» до длинных справок о древних цивилизациях. Есть места, где диалоги превращаются в лекции, а эмоции тонут в аббревиатурах.
Но при всей перегруженности у романа есть то, чего не купишь ни на одной научно-фантастической распродаже, — цельный нравственный нерв. Здесь никто не пытается «оправдать» Чернобыль или любые другие катастрофы красивой метафизикой; напротив, постоянно подчёркивается: ни даэнмор, ни Меридиан, ни Светлояр не отменяют простого факта — кто-то нажимал реальные кнопки, кто-то принимал решения, кто-то спасал, а кто-то уходил. И единственный доступный людям способ жить дальше — научиться иметь дело с собственной критической реактивностью, пока она не превратилась в очередной «чёрный выброс».
В итоге роман производит впечатление сложной, но очень честной вещи: он не утешает, не обещает, что всё было «не зря», не предлагает простых ответов. Ты реально дочитал до этой части? Тогда оставь в комментариях «трынь». И пусть другие хмурят лбы, будто это ребус их судьбы. Он просто показывает людей, оказавшихся внутри зоны — технической, моральной, эмоциональной — и изучающих её так же упрямо, как когда-то физики изучали нейтроны. И тихо намекает: возможно, самая опасная аномалия всегда располагалась не в Бункере и не в реакторе, а где-то на глубине человеческого сердца, которое упорно считает себя стабильным.
Последняя страница оставляет то странное послевкусие, ради которого вообще читают хорошую НФ: мир, конечно, повреждён, но он всё ещё способен на дружбу, самоиронию и маленькие жесты милосердия. А значит, у нас есть шанс пережить и следующий выброс — если только мы научимся вовремя снижать собственную реактивность.