Рецензия на роман «Книга без названия [The Untitled Book]»

И снова здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами об одной книге, которая заставила меня пережить странную гамму чувств. Даже пришлось налить себе не кофе, а нечто более тонизирующее.
Я начал её читать и закрыл после нескольких страниц. Потом всё же решил прочесть, чтобы написать рецензию. И по мере прочтения контуры рецензии сложились в достаточно нелестные для автора. Но было странное ощущение того, что этот роман — своего рода «клюква». И сразу вспомнился кинематографический «шедевр» времён холодной войны — «Красная жара». И всё стало на свои места.

Это «Красная жара‑2025». Раз уж Kris Alder назвал свою книгу «Без названия», то дарю ему идею. Вот с таким настроем книгу вполне можно читать как продолжение «Арни в шапке‑ушанке», но уже по современной России‑матушке.
Автор — и это понятно, даже если он не написал об этом сам, — тот самый «Арнольд в ушанке», который представляет Россию как дремучую страну, где медведи не только пляшут, но и сами на балалайке играют.
Серьёзно препарировать этот роман невозможно. Представьте: вы начинаете читать текст, который претендует на глубину и интеллектуализм, сулит сложных героев и закрученный сюжет… А на деле оказываетесь в мире, который напоминает не готовый роман, а скорее черновик, причём довольно самовлюблённый.
Проведя, если можно так выразиться, «вскрытие» этого текста по частям, я с сожалением должен признать: перед нами — не книга, а литературный симулякр.
Сложный, многослойный на вид, но в высшей степени проблемный проект, которому требуется не косметическая редактура, а самое что ни на есть радикальное переосмысление.
Готовы разобраться, почему это так? Тогда начнём наше путешествие в этот своеобразный мир.
И это будет не реализация желания рецензента выразить своё «фи», а скорее попытка помочь автору, указав на явные ляпы в его романе. Если бы у него было название «Красная жара‑2025», я бы и не стал акцентировать внимание на всевозможных несуразностях. Но роман подан как серьёзное литературное произведение.
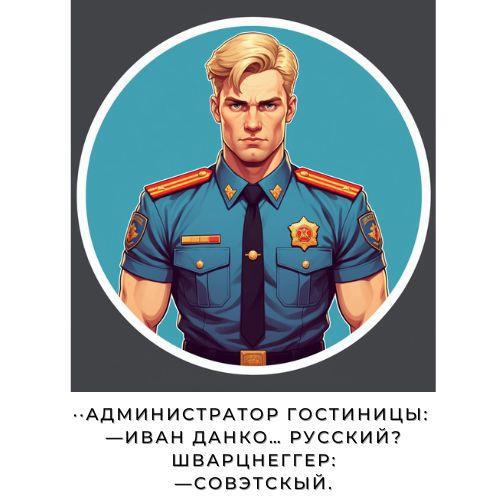
Давайте для начала поговорим о самом главном — о языке, на котором эта история написана. Ведь именно через него мы и воспринимаем весь мир книги, верно? И вот тут, друзья, меня ждало первое и, пожалуй, самое большое разочарование.
Язык этой рукописи — это какая‑то лингвистическая шизофрения . Представьте, что вы общаетесь с человеком, который вроде бы говорит по‑русски, но строит фразы так, как будто переводит их в уме с английского. Получается неуклюже, неестественно и постоянно выдергивает вас из повествования.
. Представьте, что вы общаетесь с человеком, который вроде бы говорит по‑русски, но строит фразы так, как будто переводит их в уме с английского. Получается неуклюже, неестественно и постоянно выдергивает вас из повествования.
Вот просто вдумайтесь в эту конструкцию: «Он совместно с узким кругом единомышленников провёл полузаконную конверсию…» Вы часто так разговариваете? Я — нет. Создаётся стойкое ощущение, что это не живая речь, а её бледная, механическая калька.
С лексикой творится настоящий стилистический раздрай. Автор то пытается блеснуть «ярким» словечком, вставляя в описание интерьера грубое «извращение» — что выглядит не просто нелепо, а по‑детски неуместно. То выдаёт такие перлы, как «цирк выглядел вполне убедительно» — о шпионской операции! Это же полный провал на уровне смысла и атмосферы.
А ещё текст постоянно разрывается между канцеляритом вроде «заземлить возмущение» или «сформировать короткий список» и уличным жаргоном: «дать жару», «косяк», «разводняк». Представьте себе оркестр, где скрипки играют одну мелодию, а барабаны — совершенно другую. Вот именно такое ощущение какофонии и дисгармонии.
Но настоящей вишенкой на этом торте для меня стала одна цитата. Топ‑менеджер международной компании в деловом разговоре заявляет: «Наше мнение по сделке никого не интересует… Наша задача… исключить ошибки и мошенничество».
Друзья, это звучит так же нелепо и несовместимо, как если бы британский лорд в Палате общин вдруг заявил своим коллегам: «Джентльмены, мы должны избежать любого жульничества в этом вопросе». Представили? Вот и я не могу. Это окончательно добивает всякое доверие к диалогам и к миру в целом.
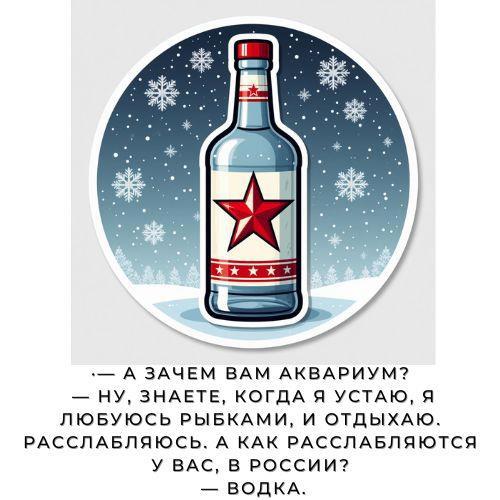
И, конечно, отдельная история — это диалоги.
Вы знаете, я всегда считал, что именно в живой речи персонажей скрывается душа книги. Здесь же меня ждало полное фиаско.
Персонажи говорят… Нет, они не говорят. Они либо зачитывают сухие протоколы, либо обрушивают на читателя многостраничные философские тирады. У меня постоянно возникало ощущение, что я слушаю не живых людей с их страхами и сомнениями, а некие рупоры, через которые автор пытается донести до меня свою глубокую мысль.
И самое печальное, что эта претензия на «интеллектуальность» и «глубину» разбивается о простую реальность: настоящая глубина рождается из ясности, а не из словесного тумана. Когда герой тремя предложениями на четырёх страницах рассуждает о «диалектике бытия», за которым не стоит ровным счётом ничего, кроме желания казаться умным, — это не глубомыслие. Это, простите, пышное многословие, призванное скрыть одну простую вещь: отсутствие подлинного чувства языка и живых эмоций.
Читая эти диалоги, я ловил себя на мысли: люди так не разговаривают. Ни в жизни, ни даже в самых смелых фантазиях. Это какой‑то параллельный мир, где все общаются цитатами из учебника по философии, и от этого он кажется абсолютно бутафорским.
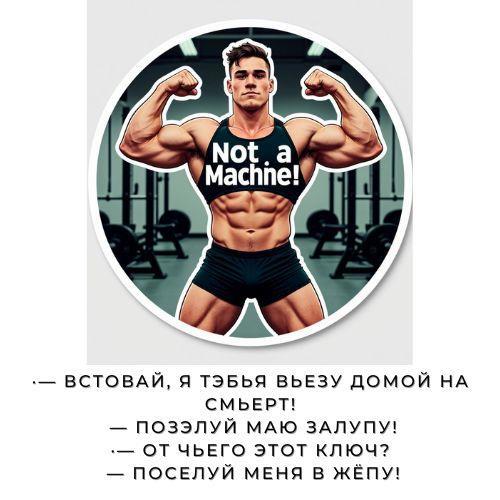
Теперь давайте поговорим о самом главном — о героях, ради которых, собственно, и затевается любая история. И вот тут меня ждал, пожалуй, самый неприятный сюрприз.
Главный герой, Крис, — это не живой человек. Это тотальная, идеализированная проекция автора, то самое классическое «Мэри Сью», только перенесённое в мир шпионов и большого бизнеса. Он непревзойдённый профессионал, эрудит, полиглот, философ и неподражаемый любовник. Все женщины сходят по нему с ума, мужчины либо уважают, либо завидуют. Согласитесь, так не бывает. Это не характер, это чистой воды фантазия.
Но дело даже не в его идеальности, а в том, как он мыслит. Его внутренний мир пронизан примитивным, а часто и просто оскорбительным взглядом на окружающих. Вот, например, его «философия»:
«Возраст женщины может быть отнесён к одному из двух периодов: пригодный для интимной близости и непригодный для интимной близости».
Или его бизнес‑анализ:
«В бизнесе успеха достигают главным образом два типа женщин: те, кто использует личные связи, и жёсткие, расчётливые карьеристки».
Друзья, вы чувствуете? Это уже не характеристика персонажа, это скорее диагноз авторскому мировоззрению. Так может думать только человек, крайне далёкий от понимания реальной жизни и реальных людей.
И если главный герой — это нарциссическая фантазия, то все остальные персонажи — просто функциональные манекены, чья единственная задача — обслуживать его эго.
- Нино — это и не женщина вовсе, а просто набор мужских фетишей: «гиперсексуальная», «творческая», «рабыня влечения».
- Эмма — и вовсе картонный злодей, существующий лишь для того, чтобы оправдать уход героя.
- Алиса — это и вовсе «божественное вмешательство» во плоти. Вчерашняя секретарша вдруг оказывается гениальным системным архитектором, который решает все проблемы главного героя. Её реплики — это не живая речь, а прямые авторские инструкции.
Ну скажите, кто в жизни говорит так:
«А первым делом твои испуганные коллеги нарисуют в своём воображении твою харизму»?
Это звучит как цитата из плохого учебника по менеджменту, а не как слова живого человека.
Апофеозом же всего этого стал персонаж Арны в третьей части. Она — «Матрица» в худи, собранная из модных клише: гениальная, ассирийка, «странная». И её роль в сюжете — не более чем ритуал поклонения герою. Их диалоги — это не общение влюблённых, а обмен заумными трактатами, абсолютно лишённый какой‑либо психологической достоверности и тепла.
Вот и получается, что в этом мире нет людей — есть только функции и нарциссические проекции. И сопереживать здесь попросту некому.
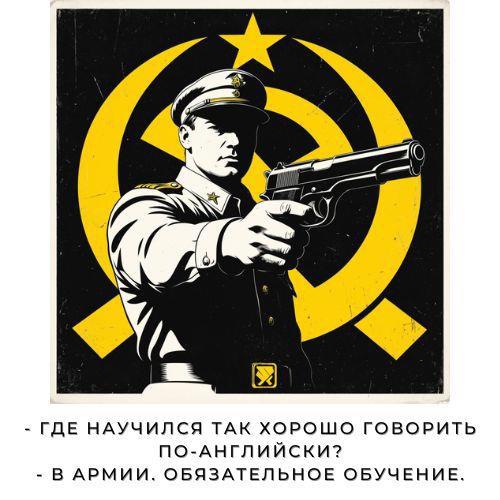
А теперь, друзья, давайте поговорим о самом сюжете — той силе, которая должна была нас нести через всю книгу, заставляя лихорадочно перелистывать страницы. Увы, здесь меня ждало полное фиаско.
Текст напомнил мне не цельный роман, а скорее сериал с кучей слабо связанных филлер‑эпизодов. Сначала мы наблюдаем «Провал в Ливии», потом — «Развод», затем — «Московские приключения бизнес‑консультанта», а под занавес нас и вовсе забрасывает в «Любовную историю с гениальной ассирийкой». Между этими блоками нет ни сквозного драматического напряжения, ни даже внятной причинно‑следственной связи. Всё существует само по себе, и от этого чтение напоминает блуждание по лабиринту без выхода.
Мне кажется, корень проблемы в том, что автор позволил себе то, что я бы назвал «нарративным эгоизмом». В текст включено всё, что он счёл интересным, без малейшей жалости к читателю. Подробнейшая, ни на что не влияющая биография пилота Джека? Пожалуйста! Многостраничные бизнес‑кейсы, читаемые как конспект лекций? И они тут! Словно автор без конца подмигивает нам и говорит: «Смотри, как я разбираюсь в этих крутых вещах!».
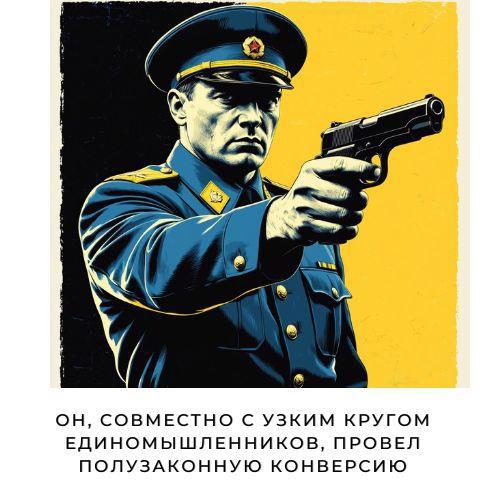
И теперь, друзья, мы подходим к самому главному — к тому, как эта история начинается и… как она заканчивается. И тут, поверьте, меня ждал настоящий когнитивный диссонанс.
Помните вступление? Мощный провал в Ливии, гибель агента, предательство — кажется, вот он, тот самый сюжетный крючок, который должен задать тон всей драме, сломать героя и заставить его переродиться. Ан нет! Удивительным образом этот «сокрушительный провал» оборачивается для главного героя… головокружительным карьерным ростом. Его не сажают, не преследуют, не ломают морально. Его «наказывают» переводом в Москву, оплаченной программой MBA и высокой зарплатой.
Вы только вдумайтесь! Это же не трагедия, а мечта любого карьериста. От такого «наказания» многие бы только позавидовали. Вся эта громкая история с провалом оказывается чистой воды фальшивкой, которая ничего не меняет ни в характере героя, ни в его судьбе.
Ну а финал… Финал и вовсе стал образцом того, как нельзя заканчивать историю. Когда автор, видимо, понял, что пора бы уже и честь знать, он наскоро приделывает к повествованию «экшен» с египетским ордером на арест и бегством в Беларусь. Эта линия не вытекает из предыдущих событий — она сваливается на голову, как кирпич.
Исчезновение Криса в конце не выглядит трагедией, не оставляет щемящего чувства потери или недосказанности. Нет. Оно кажется единственным удобным для автора способом поставить точку, не разбирая завалов собственного сюжета. После такого финала не хочется размышлять о судьбе героя — хочется спросить: «И это всё?»
Продолжаем наш разговор, друзья, и сейчас я хочу затронуть то, что, вероятно, должно было стать главной «фишкой» этого романа — его философскую глубину и портрет России. И здесь меня ждало, пожалуй, самое досадное разочарование.
Время от времени повествование останавливается, и персонажи вдруг начинают вести долгие, многословные диалоги об искусстве, смысле жизни или о пресловутой «русской душе». Но знаете, какое возникает ощущение? Что это не органичная часть разговора, а вставные номера, как будто автор вклеил в текст готовые эссе. Они призваны создать видимость глубины, но на деле оказываются набором банальностей, поданных с невероятно важным видом.

Вот, например, герой с умным видом изрекает:
«Русские не подчиняют себя и свой внутренний мир условностям, поэтому легко соглашаются на внешний конформизм».
Или вот ещё:
«Русскому человеку действительно безразличны и жизнь, и смерть. Для него смысл только в гармонии с самим собой…»
А иногда автор пытается вплести в речь «ёмкие народные метафоры», и получается нечто вроде:
«В России только две болезни — ерунда и катастрофа».
Друзья, вы чувствуете? Это звучит не как живая речь и не как глубокая мысль, а как заученные фразы из разговорника для иностранца, который хочет казаться «понятым». Мат вставлен натужно, не для экспрессии, а для галочки — мол, смотрите, как я умею по‑нашему, по‑суровому.
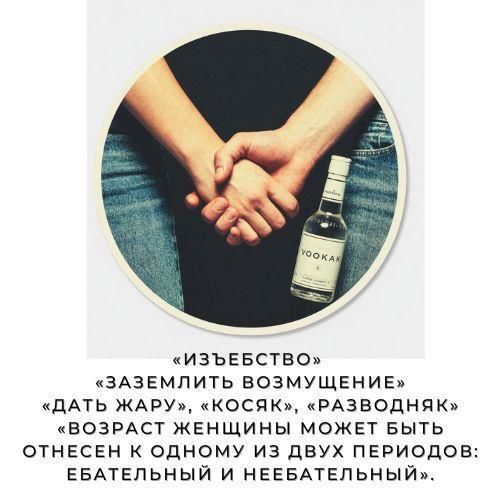
Все эти цитаты с точностью до запятой демонстрируют одну простую вещь: автор создаёт не живую, многогранную Россию, а некий стереотипный симулякр, собранный из обрывков чужих статей, голливудских фильмов и собственных фантазий. Это не взгляд изнутри, это взгляд человека, который стоит за стеклом и пытается угадать, что же творится в этом загадочном доме. И, увы, чаще всего он ошибается.
Автор создаёт не реальную страну, а некий фантазийный конструктор под названием «Россия для иностранцев».
Не лучше обстоят дела и с бизнес‑анализом. Персонаж вещает с видом знатока:
«Русский бизнес вообще достаточно жёсткий, но когда речь идёт о перераспределении активов, то он становится экстремально жёстким».
Это же штамп из голливудских фильмов 90‑х! А его экономические расчёты уровня «Чуть более семидесяти процентов. То есть три четвёртых рынка» или глубокомысленное «В девяностые годы таких убивали, сейчас только лишают бизнеса. Вкратце так выглядят пресловутые русские понятия» выдают полное, я бы даже сказал, тотальное непонимание предмета. Три четверти рынка составляют не "чуть более 70%", а 75%.
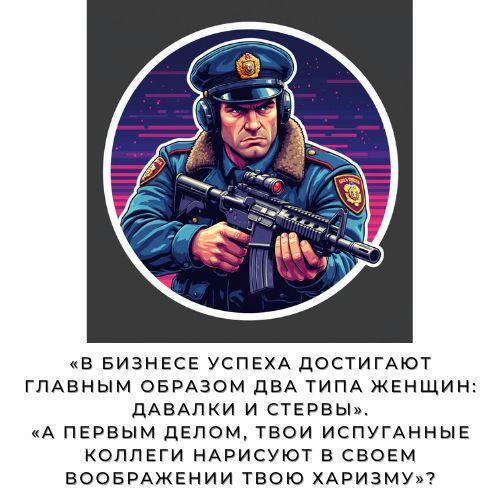
Но настоящий шедевр — это речевые характеристики. Немец, проживший в России 20 лет, изъясняется как карикатурный гопник:
«А лицо вообще никуда не годится. Что ты улыбаешься продавцу? Он что, твой друг? Ну и одежда не нашего пошива, „неподходящая“».
Фраза «неподходящая одежда» — это вообще нечто, не имеющее аналогов в живой русской речи. А поверхностные наблюдения вроде того, что «Москвички редко идут на тяжёлую работу» или что «в России важным аспектом бизнеса является статус», звучат как примитивные штампы из туристической брошюры.
Апофеозом же всего этого безумия для меня стала сцена крещенских купаний. Олигархи в проруби — ещё куда ни шло. Но вот комментарий автора:
«Осознание того, что двое мужчин в плавках, которых сопровождали строгие охранники в безупречных костюмах, оказались совладельцами холдинга… наполнило происходящее каким‑то абсурдным гротеском».
Друзья, настоящий абсурд заключается не в том, что олигархи купаются в проруби, а в том, как это написано. Эта нарочитая, вымученная «глубина» окончательно добивает сцену, превращая её в неубедительный и нелепый фарс.
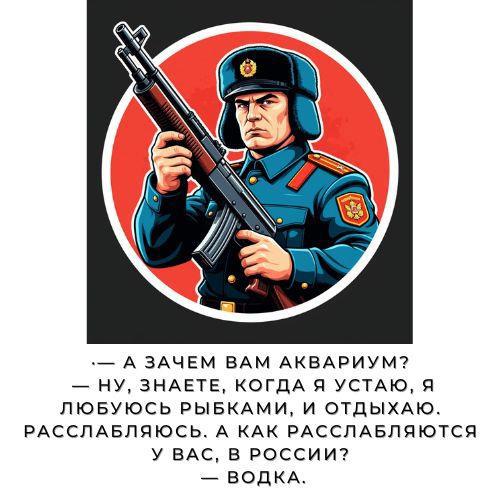
И напоследок, друзья, я не могу не поделиться с вами тем, что стало для меня верхом лингвистической глухоты. Порой создаётся впечатление, что автор просто не слышит, как звучат его собственные фразы в контексте.
Вот, например, герой попадает в кабинет олигарха — должно быть, место, призванное поражать воображение. И какое же сравнение приходит ему в голову? Он оглядывает роскошные апартаменты и изрекает:
«Очень изысканный офис, чем‑то напоминает кают‑компанию на старинном фрегате».
Вы представляете? Неоготический особняк, дорогая отделка, ассоциируется… с тесным помещением на деревянном парусном корабле. Это сравнение настолько алогично и оторвано от реальности, что звучит как речь инопланетянина, который изучал человечество по приключенческим романам. Оно не цепляет, не рисует образ — оно лишь вызывает недоумённый вопрос: «Простите, что?»
Такие моменты окончательно убеждают меня, что перед нами — не просто сырой текст, а произведение, существующее в параллельной реальности, где подобные диалоги и описания кажутся их создателю глубокими и уместными.
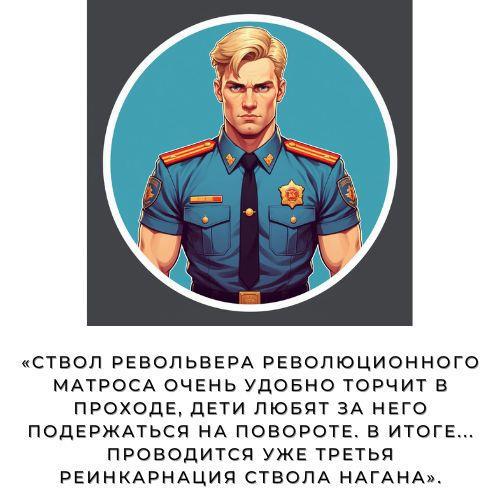
И знаете, друзья, когда я закрыл последнюю страницу, меня не покидало одно странное ощущение. Я долго не мог понять его природу, пока не провёл одну простую параллель. Помните культовый боевик 80‑х «Красная жара» со Шварценеггером? Тот самый, где СССР был показан как сюрреалистичный мир, состоящий из одних лишь стереотипов: медведи, балалайки, пьяные казаки и угрюмые чекисты.
Так вот, этот роман — та самая «Красная жара», но только образца 2025 года. Тот же самый нелепый, собранный на коленке конструктор из штампов, только вместо «совка» здесь — карикатурная «Рассия», собранная из обрывков новостей, голливудских клише и анекдотов. Медведи, матрёшки, водка, ГУЛАГ — все эти ярлыки щедро рассыпаны по тексту, создавая ощущение, что автор не живёт в реальности, а листает старый путеводитель для иностранцев.
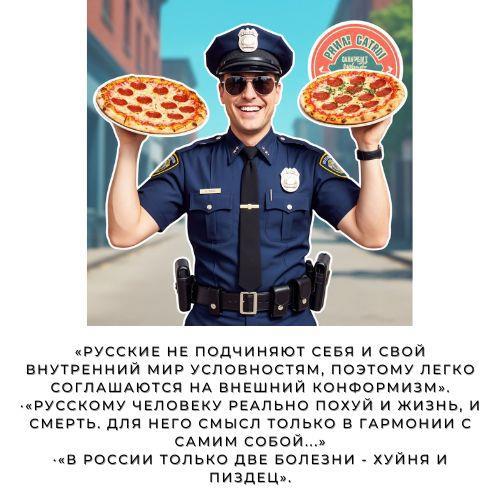
Это проявляется даже в, казалось бы, рабочих моментах. Вот персонажи обсуждают систему безопасности на производстве:
«Ностальгия по ГУЛАГу? — пошутил я. — Это защита от дурака».
В итоге получается не роман о России, а низкопробная вариация на тему западного взгляда, где наша страна — это не живой, сложный организм, а нелепый и пугающий карнавал из одних и тех же дешёвых декораций. Увы, со времён «Красной жары» этот взгляд не стал ни глубже, ни умнее.
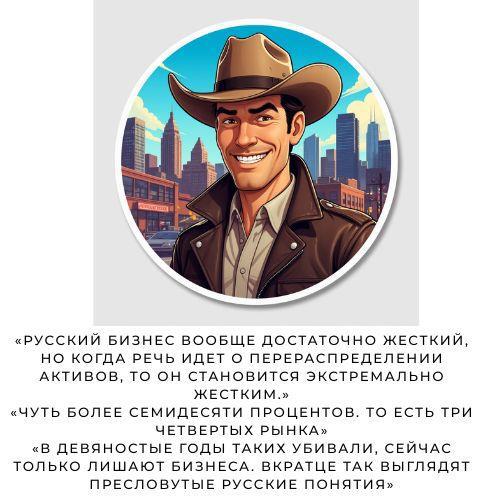
Знаете, друзья, пока мы с вами разбирали все эти стилистические и смысловые ляпы, у меня в голове постоянно крутился один неловкий вопрос. А ведь рукопись, по словам автора, проходила через руки «переводчика на русский» — то есть, как я понимаю, некоего носителя языка, который должен был вычитать текст и сделать его аутентичным.
И после этого у меня возникает уже не вопрос к тексту, а вопрос к этому самому «переводчику». Либо этот специалист был чудовищно некомпетентен и просто прошёл глазами по запятым, не вникая в смысл и стилистику. Либо он столкнулся с таким объёмом работы — необходимостью не «подправить текст», а фактически переписать его с нуля, — что махнул на всё рукой.
Так или иначе, но сама необходимость прибегать к такой услуге — «переводу с русского на русский» — красноречиво говорит сама за себя. Это признание автора в собственной лингвистической несостоятельности. Проблема ведь не в грамматике, а в чувстве языка, в понимании культурных кодов и стилистических оттенков. А этому, увы, ни один «переводчик» научить не может.
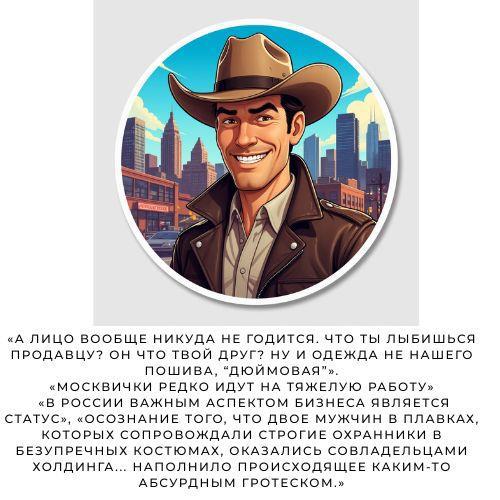
Так что же у нас в итоге получается, друзья?
Перед нами — не живая книга, а некий литературный конструктор, скрупулёзно собранный человеком, явно влюблённым в созданный им идеальный образ. Текст до краёв наполнен демонстрацией мнимой эрудиции, поверхностных профессиональных знаний и псевдофилософских размышлений. А за всем этим пышным фасадом — пустота.
Нет живых персонажей, за которых можно переживать. Нет честных эмоций, которые можно разделить. Нет выверенного сюжета, который увлекает за собой. Этот мир существует в параллельной реальности, где подобные диалоги и описания кажутся их создателю глубокими и достоверными.
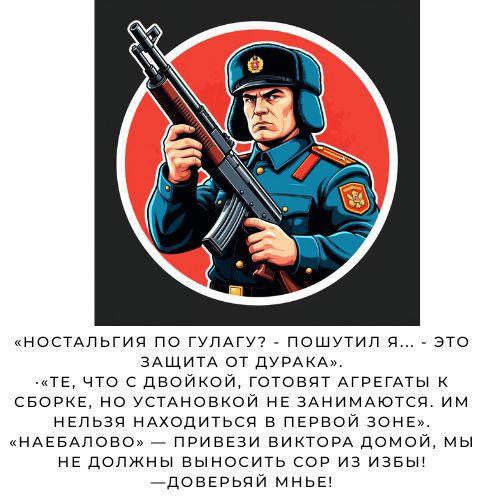
И теперь главный вопрос: что же со всем этим делать?
Мой вердикт, как человека, который прожил с этой рукописью немало часов, может показаться суровым, но он честен: этот текст не поддаётся исправлению. Ему нужна не редактура, не шлифовка и не косметический ремонт. Ему требуется радикальное переосмысление и, я бы сказал, мужество — написать всё заново. С чистого листа.
Начать нужно с ответов на простые, но болезненные вопросы: а какой ценой на самом деле даются победы? Где настоящие, а не бутафорские слабости героя? Что он теряет на своём пути, кроме как возможность лишний раз блеснуть умом?
Без этой внутренней работы, без готовности «убить в себе» идеального «Мэри Сью» и найти по‑настоящему беспристрастного и жёсткого редактора рукопись так и останется тем, чем является сейчас — образцом графомании с огромной претензией на глубину. Печальным симулякром литературы в её самой законченной и неприглядной форме.
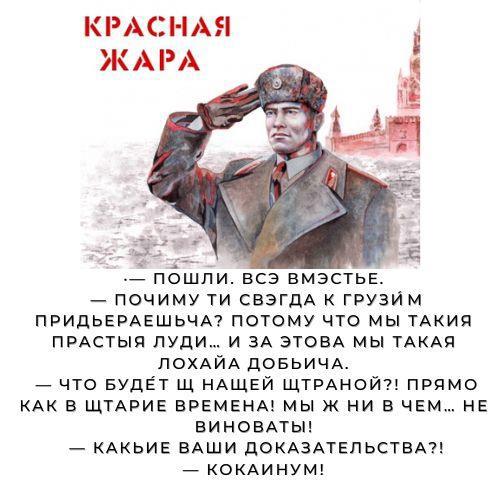
Сурово? Пора ставить точку?
А вот этот роман такой, что, как в известной фразе «Казнить нельзя помиловать», я так и не определился, где поставить запятую. Знаете причину? Она — в этой непередаваемой трэшевой атмосфере «Красной жары».
И если автор перестанет пытаться писать серьёзный шпионский роман, а использует его минусы, превратив в плюсы, сделав ляпы фишкой — в стиле «голливудской клюквы» времён Холодной войны, — то может получиться вполне недурственный роман, который станет полноправным преемником поистине ставшей легендарной «Красной жары».
Спасибо за внимание! Мои самые лучшие пожелания автору — и спасибо за такой необычный роман. Он сперва вызывал у меня неприязнь, затем раздражение, а затем — забавную ассоциацию с «Красной жарой», что изменило моё отношение с негативного скорее на позитивное.
Это может быть:
- новая книга — если её переписать с нуля;
- книга, которая обретёт название, соответствующее её содержанию.
В любом случае выбор за автором, а я пойду выпью... кофе
