Рецензия на роман «Косплей Сергея Юркина. Айдол-ян. (книга четвёртая, часть первая)»
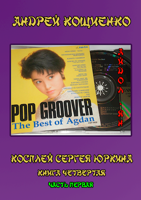
РЕЦЕНЗИЯ СОВСЕМ УЖ СКАЗОЧНАЯ
Как я уже писала ранее, человеческое сознание только обладает потенциалом Абсолюта и не способно объективировать в каждый момент свой вес для Вселенной. К тому же смыслы ситуаций, в которых мы участвуем, мало кем осознаются одновременно с ходом событий. Ставя перед собой определенные цели, человек подчас реализует совершенно иные задачи, которые опять же могут быть осознаны или не осознаны впоследствии, так сказать, по итоговым результатам или при помощи квалифицированного постороннего, умеющего задавать «правильные вопросы».
Автор Шкурки в интервью проговаривал, что ставил перед собой задачи познакомить читателей с жизнью в Ю. Кореи, ее традициями, цивилизационными особенностями, культурой. В частности, Автора в свое время заинтересовал кинематограф, а точнее: «дорамы» и К-pop – мир корейской эстрады.
Анализируя как текст произведения (первый том был написан в 2014 г.), так и «общность тем и вопросов», заданных читателями друг другу и Автору, мы можем обнаружить, что результаты превзошли ожидания Автора. Подняты из глубины времен, разворачиваются, адаптируются к новым биосоциальным условиям психотехники, психопрактики, механизмы изменения картины мира. Это ответ на «Вопрошание» [А. Тойнби] надсистемных условий (см. рецензию № 4), т.к. сейчас идет период оптимума радиоэкологического цикла. Вслед за ним «подтягиваются» биосоциальные аспекты жизни человечества. Он поразительно напоминает период времени, который К. Ясперс назвал «осевым временем». Мироотношение «темных времен» утрачивает рычаги воздействия и степень влияния. На повестке дня слом старого и/или выстраивание «нового» мироотношения. А т.к. действия реальности всегда избыточны, расширяются старые варианты предыдущего цикла оптимального мироотношения и находятся, апробируются новые.
Вновь «открыто» и дополнено то, что уже существовало в человеческой культуре, по крайней мере в европейской культуре, активно задействуются и развиваются различные виды (формы) народного юмора. Одни относят возникновение смеха и смеховой культуры к Средневековью [См. о карнавале М. Бахтин], другие считают их отголосками архаичных праздников [В.Н. Топоров], третьи описывают это явление как трикстерство [П. Радин], четвертые рассматривают феномен шутовства.
На наш взгляд, феномен смеха берет свое начало практически в том же времени, что и завершение формирования более или менее «целостной» картины мира. По мере «законченности» появилась необходимость в разрушении закрытости, стабильности, сохранности картины мира и введении в нее новой информации, не содержащейся ранее. Если информация дополняет, развивает, уточняет, то она встраивается в существующее. А если противоречит или вообще принципиально новая?
Естественные науки (например физиология) убедительны в доказательствах (в частности, академик П.В. Симонов), что человеческое сознание способно работать с информацией только в том случае, если она содержит представления, которые уже заложены в мировоззрении. Иначе сигналы окружающего мира будут «отбрасываться» как несуществующие, организм к восприятию сигнала готов, сознание обрабатывать – нет.
Если нет чего-то в профанном мировоззрении, не поискать ли нам, как решаются задачи подобного типа в иных («специализированных») картинах мира?
Духовные, магические традиции во все времена работали над проблемами: как ввести в картину мира новое, не присутствующее в профанном мировоззрении? Как снять те рамки ограничений, что не позволяют сознанию «обрабатывать» сигналы «подпороговых» величин (субсенсорные) или те, что не «вытекают» из картины мира.
А. Ксендзюк отмечает: «C той самой поры, когда человек осознал и утвердил в собственном воображении природу, вид и характер своего существа, выделил и закрепил в мыслительном пространстве человеческую форму, тем самым декларировав не только свою уникальность, но и свою ограниченность, он не перестает грезить о трансмутации. Нас не оставляет желание измениться, найти в себе и развить способности к превращению в Иное – наша монотонность разочаровывает и затягивает в себя, непреходящий круговорот жизни и смерти словно бы томится и ждет перехода в новое качество, питая извечные сны и фантазии. Мы ищем возможности трансмутации повсюду: мы желаем убедиться, что стабильность и ограниченность вида (структуры, формы, элемента) неабсолютны, и, добиваясь целенаправленного превращения вещей <…>, почти бессознательно возбуждаем в себе надежду на грядущую трансформацию собственного существа, чья неповоротливость и косность так сильно противоречит подвижности чувств, плаcтике мысли, эфирным ветрам свободного духа» [Ксендзюк А. Цит. по www.nagualism.ru].
Сталкинг Кастанеды – методика расширения стабильного восприятия и изменения схемы привычной обработки поступающих сигналов. Иногда клиническая смерть (как временное прекращение наработанных «каналов» обработки информационных сигналов мозга) позволяет «вклинить» в привычную картину мира новые «пазлы», человек видит более широкий спектр света, становится «видящим» или «слышащим шёпот мира», у него расширяется, углубляется мировосприятие, жизнь наполняется новыми красками, изменяется структура ценностей личности, расширяется горизонт сознания.
Для изменения картины мира чаще всего используются специальные методики. Так, методика ДФС – дифференциальных функциональных состояний [И.Н. Калинаускас], используемая в трансформационной Традиции, направлена на формирование умений «воспринимать» весь спектр звучаний мира. Остается задача создать для себя «координатную сетку» расшифровки поступающих сигналов и увеличить чувствительности (тонкости) аппарата восприятия подпороговых значений [См.: Гр. Рейнин «Практики второго уровня реальности»]. Сложности объективации подпороговых (субсенсорных) значений сигналов тоже существуют. В первую очередь потому, что объективация осуществляется в рамках сложившейся картины мира в терминологии, которая и описывает (создает, формирует) эту картину [подробнее см. В. Данченко]. Выходит, что «вклинить» действительно новое крайне сложно, т.к. вербализация (описание) укладывает все в уже существующую гипотезу.
На форуме, посвященном «Шкурке», мы часто встречаемся с этими сложностями. Часть читателей так и не может ввести в сознание то допущение, что описывается мир фантазийный, мир параллельной Вселенной, где могут действовать (или не действовать) иные причинно-следственные связи, проблемы могут решаться иначе на законодательном, традиционном, обыденном уровнях. Сознание некоторых читателей произведения не может справиться с данной «вводной».
Древними было найдено частичное решение этого парадокса. Информация преподносилась как заведомо «неправдишная». Реализовывалась чаще всего в устном народном творчестве, в котором всегда было место менестрелям, миннезингерам, сказителям, скальдам, «каликам перехожим» и гуслярам, скоморохам и ряженым, шутам и карнавалам. Рассмотрим в качестве примера введения в сознание заведомо исключительного, совсем «неправдишного» или возможного, но в иных условиях, – сказку. Русская волшебная сказка красива, самобытна, многослойна, всегда содержит несколько смыслов. По нашему мнению, волшебная сказка есть действенный способ донести до человека информацию о чем-то ином, не явленном в описании профанного мира.
Анализ содержания волшебных сказок, например собранных А.Н. Афанасьевым, решает проблему расширения представлений о человеческих возможностях, способностях и т.д. Содержание сказок является пропедевтикой, приоткрывающей методологию и методику обретения того, что сейчас принято называть магией, сверхспособностями, сидхами, экстрасенсорными способностями, аномальными проявлениями и т.д.
Сказки подсказывают, что истинное не бывает на поверхности, оно сокрыто, сокровенно, что иван (необученный) в царевиче, «встав на путь» и пройдя его, может получить полцарства и стать Иваном. Только Путь позволит состояться, до этого человек только проект, существо необученное, несвершенное, несостоявшееся и незавершенное совершенство.
Смех – механизм, позволяющий ввести в картину мира новую информацию с минимальным сопротивлением сознания. Смех есть результат множества процессов: культурных, психофизиологических, эмоциональных. Не смотря на множество теорий о причинах возникновения смеха, смеховой культуры, мы обращаемся только к одному из многочисленных аспектов смеха: его способности отменять одни смыслы и присваивать другие словам, явлениям, ситуациям, процессам. Раскрытие (осознавание, объективация) «нового смысла», сравнение со «старым», обнаружение их неравнозначности, не конгруэнтности, смыслового несоответствия, ожидания одного и обнаружением иного порождает спонтанную реакцию – смех. Казалось бы, парадокс: осознавание в начале, потом сравнение, потом смех. Однако при отсутствии смеха не происходит «переназначение», присваивание новых смысловых значений. Без смеха может происходить расширение картины мира. Но появление нового – нет. Нужен зазор между двумя смыслами, которое, по нашему мнению, и является триггером смеха. Легкомысленность часто соответствует смешливости. А отменное чувство юмора, как правило, – атрибут творческого человека.
«Взлом» картины мира проходит особенно удачно, если он осуществляется как бы в форме шутки, с юмором, в форме сказок или заведомо обозначенном жанре придуманного мира: миф, легенда, сказка, утопия, фантастика, фэнтези. Фэнтези, по нашему убеждению, имеют максимальное сходство со сказками, базируются на тех же информационных слоях Ноосферы, являются прямым продолжением сказок, несут те же функции. Обратим и мы внимание на этот развлекательный жанр.
Для доказательства вышесказанного рассмотрим произведения цикла А.Г. Кощиенко «Косплей Сергея Юркина», цикл о попаданце, который в полной мере содержит все необходимые требования. Сюжет обескураживает: мужская сложившаяся личность с сохранной памятью, навыками, компетенциями, умениями (теми, что не базируются на умениях физического тела), способностями, попадает в тело девочки-подростка. Существо, осознающее себя Сергеем Юркиным, получает в честь переселения здоровье, красоту, прокачанную память. Гуань Инь подарила положительный баф, работающий в любом деле куда ГГ прикладывает внимание, усилия, старания, и главное – субъективные ощущения необходимости результатов выполняемого действа.
Здесь же присутствует комедия положений: образ мыслей, паттерны поведения – мужские, сформированные европейской культурой, а окружающие ожидают полоролевого поведения девочки, школьницы, кореянки. Добавьте сюда привычку гуманитарев не контролировать изречённое, плюс склонность к проявлению «сущностных добродетелей» – старому доброму троллингу. Все это разворачивается в незнакомой для ГГ среде – музыкальном агентстве, где богемная публика и сама творит дурдом и дома, и на выезде, и по первому требования, и без всяких требований. (У меня иногда возникает ощущение, что я читаю о деятельности высококвалифицированного обученного шута под прикрытием в стане врагов.) И как не старается ГГ быть белым и пушистым, очередное недержание речи регулярно портит лик няшки-айдола.
Сказки (как и наш случай) повествуют о тридевятом царстве, тридесятом государстве, говорят о том, что мир явленный, мир осязаемый, видимый – суть не единственное. Существуют иные миры с иными принципами организации, с другими характеристиками. Сказки допускали возможность попадания человеческого существа в запределье, готовили для знакомства с неявленным, иным, неочевидным. Расширяли границы реального, возможного, предостерегали, учили правильным реакциям, поиску должного и приемлемого. И мы до сих пор не можем утверждать, использовались ли пророческие способности сказителей, прогностическая ли функция сказок при описании золотого яблочка и блюда с голубой каемочкой, ступы Бабы Яги, жилья Кащея и т.д. или это было что-то иное. Что описывалось на самом деле: магический артефакт, технические средства? Что это было, откуда пришло? [Об артефактах в сказках и их технических аналогах можно послушать https://www.youtube.com/watch?v=pUVHnzr5tRo]. Что это? Отзвуки ли давно прошедших времен или достижения другой, бывшей до нас, цивилизации? Пронзание ли пытливым взором нашего будущего или это проникновение в «наш мир» знаний иных «параллельных миров»?
Под «прикрытием» сказочного, нафантазированного, несуществующего проще всего ввести в культуру человеческой цивилизации будто бы только «виртуальные» описания «иных» миров, взаимодействий, показать «другую» логику решения взламывающих задач. [См. например Шах Идрис «Сказки дервишей. Суфийская традиция»]
Сказки в мягкой форме знакомят со сложнейшими философскими представлениями самого различного направления (например, «Колобок» знакомил детей с космогоническим устройством вселенной). Но есть необходимость в механизмах для непосредственного слома уже устоявшейся картины во взрослом возрасте (таким персонажем-механизмом является, например, Локки, божество лукавства и обмана скандинавского пантеона). По нашему мнению, это крайне ошибочное, упрощенное толкование функционала, персонифицированного как Локки. По сути, Локки осуществлял внедрение в формах обескураживающего юмора в уже существующую картину мира человека того, что в нее не входит (противоречит ей).
В первую очередь его функционал состоял в выявлении границ возможного/невозможного, существующего и виртуального, во встраивании в эти границы новых блоков под «прикрытием» юмора, смеха, будто бы не существующего. «Нахождение зазоров», «стыков» границ нормы и не нормы, разрушение существующего и расширение картины мира – все это функции надсистемы при смене мироотношений, при наступлении определенных временных эпох (См. рецензию № 4). Пантеоны богов имеет или божеств типа Локки, или бога-весельчака, веселого персонажа, любителя шуток, проделок. На Руси еще совсем недавно славянские ордена скоморохов не только показывали, образовывали, но и средствами смеховой, иногда упрощенной, гротескной культуры представляли широким массам населения возможность расти вместе с расширением сознания. Ведическую культуру сменило Юродство Христа ради, с теми же самыми функциями, как бы это не объяснялось клириками. Многочисленные суфийские Ордена и учителя, отдельные представители Дао, «Орден Шутов Господних», «Орден Веселых сумасшедших» и т.д. и т.п. тому примеры.
Появление новых форм, в какой-то мере заменяющих, в какой-то мере продолжающих традиционные приемы смеховой культуры, закономерно, т.к. это необходимо Вселенной. Мифы, сказки, утопии, фантастика (а сейчас и фэнтези) продолжают славные традиции дней ушедших.
Смех – один из главных действующих механизмов проникновения в структуру сложившейся картины мира, один из действенных механизмов, «творящих» новое мироотношение. Перед нами явление более успешное, чем тонны назидательной литературы. Мы – субъекты наполняющие формы новыми идеями, концепциями, мыслями будущих свершений, творящие новые формы взаимодействия человечества и надсистемных представителей будущего. По нашему мнению, в канву будущего все ярче, все отчетливее вплетаются различные формы работы с информацией.
Произведение о приключениях, жизни, творчестве «попаданца» Сергея Юркина, снабженное несуразностями, юмором, троллингом, органически ложится в требования времени перехода к эпохе изобилия. Автор мастерски раздвигает картину мира у своих читателей. Остается всего лишь один вопрос.
Андрей Геннадьевич, уважаемый, а Вы случайно родственником Локки не приходитесь? Например, внучкОм? Уж больно энергии и повадки похожи.
