Рецензия на роман «Ген подчинения»
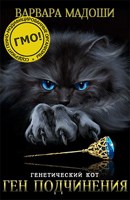
Книга совершенно очаровательная, с приятным юмором, харизматичными героями, вкусным стимпанковским антуражем. Читается с огромным удовольствием. Но, дочитав, её следует немедленно отложить в сторону и не обдумывать. Иначе становится понятно, что натяжек, нелогичностей и не очень удачных приёмов здесь также немало, и всё впечатление будет испорчено.
Идея, конечно, беспроигрышная. Все любят великих сыщиков, все любят пушистых котиков, а уж если их совместить в едином лице - получается просто оружие массового поражения. Добавляем умненькую и ироничную девочку-сиротку, необычный и интересный мир, приключения и интриги – и читателю деваться некуда, он пойман и очарован.
Язык книги не идеальный (попадаются иногда фразы вроде «выпалила я едва ли без сознательного разрешения»), но приятный. Юмор – мягкий, сдержанный, скорее даже не юмор, а ирония и самоирония, что всегда подкупает:
Мне открыл слуга, который был бы невероятно чопорным, если бы не повязка на глазу и деревянная нога. Он посмотрел на меня так, что я сразу вспомнила одновременно о том, что сама подшиваю себе юбки, а еще о том, что в Школе сыщиков у меня была четверка с минусом по рукопашному бою. Это уже просто нечестно! Напыщенные дворецкие могут заставить тебя сомневаться в себе по одному пункту, но по двум сразу...
Или, например, такая милая отсылочка:
Шеф очень хорошо понимал в колбасных обрезках. Он написал о них книгу. Точнее, надиктовал.
Герои – очень яркие, живые, интересные. От этого вдвойне обидно, когда они по авторскому произволу вдруг делают глупости, очевидно направленные на подталкивание сюжета в нужном направлении. То героиня, не обращая внимания на подаваемые шефом знаки, совершает импульсивный поступок, то злодеи делают классическую промашку – недооценивают противника, оставив ему оружие, и ведут при этом самоуверенные диалоги…
– А что это у нее на ноге? Ножны, что ли? Сняли бы вы их, Милена Норбертовна.
– Резников, ну вы даете! С вашими-то связями бояться ножичка? Она и не тронет его, пока я не прикажу.
Диалоги в целом, впрочем, очень хороши. Соответствуют характерам, раскрывают персонажей… да попросту – в них веришь.
– Нет! – кричал шеф, усиленно размахивая хвостом так, что тот шлепал его по объемистым бокам. – Где вы видели такие кисточки на ушах?! Это, по-вашему, кисточки на ушах?! Там будут буквально все! Прохор, уволю я вас, вот как есть уволю!
– Увольняйте! — отлично поставленным тенором вскричал Прохор, с клацанием ставя на столик орудия своего неблагодарного труда. – Если это вся благодарность за пятнадцать лет вычесывания шубы и выноса лотка! Я легко найду хозяина получше!
Среди минусов книги самый главный – детали, вписанные в сюжет всё тем же авторским произволом. Меня особенно потрясла «пневмопочта» - местная разновидность метро.
Если я всё правильно поняла, это «метро» принадлежит генмодам – разумным зверям, построено тайно от людей, туннели тянутся подо всем немаленьким городом в разных направлениях. Перемещаются в нём, как на аттракционе, в кабинке на одного человека. Конечно, идея богатая, позволяющая вписать эффектную сцену – но и только. По сути, всё, что дало введение в роман этого «метро» - быстрое и тайное перемещение героев с одного конца города на другой два или три раза за всю книгу.
Отобрала у книги эта деталь гораздо больше – достоверность и реалистичность. К сожалению, приземлённый и меркантильный читатель вроде меня немедленно начинает задаваться неудобными вопросами. Кто оплатил строительство этого «метро», учитывая, что прокладка туннелей стоит (в реальности) недёшево? Кто вёл работы? Почему жители города не заметили идущего строительства? Куда и как вывозили землю из туннелей, наконец?
Да, мы, приземлённые и меркантильные читатели – сущие чудовища. Мы хотим, чтобы мир книги был логичным и связно простроенным, чтобы все его детали, даже эпизодические, стыковались друг с другом. И когда в изящно выстроенную картину вдруг врезается явно чужеродная деталь, нам кажется, что ткань повествования рвётся и расползается.
Этой пневмопочты, маленькой проходной детали, не могло быть в мире книги – и, как следствие, весь мир перестаёт существовать.
С другой стороны, намного более важная деталь, «контрольная булавка», с помощью которой можно получить власть над генмодом, тоже выглядит как авторский произвол. Каким образом она работает – неизвестно. И получается этакое условное «патамушта», которое читатель должен принять на веру. А дальше всё зависит от конкретного читателя – кто-то примет «патамушта» как данность, а кто-то, как вы понимаете – приземлённый и меркантильный.
При том, что книга очаровывает и затягивает, подобных деталей в ней многовато. Летающие такси, линзы для птицы… кошачьи выставки. Я имею в виду, что на то, чтобы, эээ… скажем так, на то, чтобы поладить с обычной неразумной кошкой во время её гона, у кота уходит довольно много времени. Точно не полчаса, как в книге – если только он не прибегнул к жестокому изнасилованию.
Каждая такая мелочь – пазл, выпавший из общей картинки.
Ещё одна вещь, которая, на мой взгляд, портит впечатление – лишнее стремление к эпатажности. Здесь есть моменты, явно вставленные ради хулиганства. И я это всецело одобряю и поддерживаю в принципе, но к общему стилю книги, к этому приятному старозаветному антуражу не то викторианской Англии, не то дореволюционной и европеизированной России всё это мелкое хулиганство совершенно не подходит. Просто не вписывается.
Сцена с крысами, которым умиляется героиня, например, выглядит уместной – она тоже явно рассчитана на эпатаж, но здесь нет перебора (ну хорошо, нет перебора на взгляд человека, который тоже считает, что у крыс милые лапки):
Я не боюсь крыс. Теперь я знаю, что они разносчики заразы, и что они могут насмерть загрызть спящего ребенка или просто больного и слабого человека. Но в детстве, когда жила на улице, я этого не знала. Они меня никогда не грызли. Они были теплые, и копошились в одежде, и у них такие милые розовые лапки. Одна крыса, помню, поделилась со мной едой, другая по вечерам приходила поиграть.
Этот ход сделан один раз и больше не повторяется – выходит забавно и очень симпатично.
А вот шуточки с матом очень быстро начинают резать слух. В романе обыгрывается тоже, в общем-то, забавная деталь: для здешнего общества вершиной неприличия является богохульство, а матерные словечки – куда более сдержанные выражения:
«Черт, – подумала я; крайне неприличное ругательство для благовоспитанной барышни, но менее богохульные, вроде наименований половых органов, стремительно меня покинули.
Это интересно и в тексте смотрится довольно-таки смешно:
– Бегите! – крикнула я. – Бегите, ради всего святого, хуй с ним с рюкзаком!
(При шефе и наставнике мой язык не повернулся ругаться совсем уж грязно.)
Но – только в первый раз. На второй раз шутка уже не звучит, а грубые словечки, временами появляющиеся в романе, выглядят чужеродными.
И снова возникает проблема совместимости. В нашем мире ситуация, когда богохульство было неприличнее названия полового органа, существовала в средние века. Для того, чтобы она возникла в принципе, нужна была основа из всеобщей религиозности. Но в мире книги религии занимают весьма умеренное место в жизни людей, что прямо показано в тексте. Героиня живёт в светском государстве. И каким образом для его граждан богохульство стало настолько значимым, совершенно непонятно.
Словом, общее впечатление выходит неоднозначным. При безусловном таланте автора книга получилась далеко не идеальной. Что совершенно не означает, что я не получила удовольствия от её прочтения.
