Рецензия на повесть «Шериф Ноттингемский»
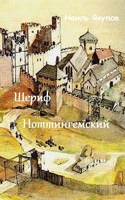
Для меня не было особых проблем с определением жанра «Шерифа…». В последние 20 лет появился, закрепился и развивается относительно новый жанр исторических воззрений на соответствующую литературу. Называется он «исторический неореализм с натуралистическими акцентами». Где сами акценты призваны реализовать немаловажные подробности средневекового бытия, естество которых призвано подчеркнуть реальность человеческого существования (и не только в рамках Средневековья).
На АТ уже сотню раз поднималось обсуждение этих акцентуированных подробностей: как рыцари справляли нужду в седле, как и сколько они мылись, как занимались любовью, ели-пили-спали? Такие подробности воспринимаются адекватно, описываемой эпохе, но не слывут инородными или опошляющими текст. Потому что сами «акценты» призваны выбиваться за грань «гладкого» повествования, так их и определяют критики.
С другой стороны можно видеть в «Шерефе...» и исторический постмодернизм, как определение стиля и текстового посыла повести. Можно и так, но я всё же вижу в нём первое. Данная повесть (исходя из оценки композиции произведения, можно так и обозначить) напоминает свод баллад, связанных едиными героями и смыслом, потому и воспринимается как единое целое. Можно это назвать и романом… Но для романа же характерна иная, совершенно другая, конкретная композиция, где глав без частей не бывает. Исходная концепция: «перемена мест слагаемых» - авторский призыв взглянуть на устоявшуюся историю иными глазами и с совсем другой стороны. Да, и шериф, и Робин остаются антиподами, но личностно-нравственные акценты теперь расставлены в другом порядке. А почему бы и нет? Ведь уже имеются литературные варианты, когда шериф и разбойник – родные братья или отец-сын. Вторая ипостась устоявшегося мнения, шериф всегда – герой отрицательный, демонический, недалёкий, но упёртый в своей мстительной ненависти к Робину и всему тому, что с ним связано. Но авторская концепция и выглядит оригинальной, когда она наделяет извечно отрицательного героя положительным патерном. «Кто есть кто» теперь выглядит совершенно по-новому, и эта новизна призвана вызывать интерес своей неординарностью.
В блоговых постах, а также обсуждении этой повести, я принял для себя, вот такую оценку её автора, очень конкретную и очень смысловую:
Вы заметили, что Наиль пишет трэш, работая на стыке жанров. Мне не очень интересны технические детали. Мне главное передать смыслы. Историю про Робина можно было поместить на космический корабль, и при этом она осталась бы той самой историей.
И это говорит о том, что и Робин, и шериф – достойные инструменты для воспроизведения специфической авторской концепции. Тот случай, когда не герои для автора, а наоборот – автор для героев. Трэш не ради самого трэша, а как инструмент для реализации авторского воззрения на совершенно конкретную тему. Трэш не уводит читателя от реальности – он приближает его к ней. И в этом одна из сильных сторон «Шерифа…».
Не ищите в «Шерифе Ноттингемском» глубокой исторической подоплёки, там для вас может и не хватить «заклёпок». Смысл повествования не в самой Истории, а в её сегодняшнем восприятии, в сегодняшней возможности переосмысления былых легенд и баллад, уже изрядно набившей оскомину читателям. Я осознанно добавляю тег «трэш», понимая под ним крайний постмодернизм. Но это лишь условности и игры в обозначения.
И ещё вот это показалось мне знаковым:
там очень запутанная история. Правление Иоанна Безземельного. Восстание баронов. Хартия вольностей. Из которой вся наша современная жизнь и состоит. Да, Робин - обычный разбойник. Шериф - доблестный полицейский. Но там есть персонаж магистр тамплиеров. Это явный прогрессор. Тут можно было развернуть в фантастику, но я не стал.
Эпиграфом для «Шериф Ноттингемский» я бы избрал вот такие строки:
Буквой строгого закона
Чтит британская корона лес,
Шервудский лес.
По заброшенным дорогам
Бродит тут назло законам Бес,
Проклятый Бес
А теперь настало время рецензионного материала, который, как и многие другие, возможно, грешит вкусовщиной. Потому что является мнением одного, отдельно взятого человека, обладающего личным, потому определённым мнением, возможно, отличающимся от других...
1.Соответствие заявленной теме, логичность изложения, организация/внятность текста, композиция
Канон «место-время-ситуация-герой-действие-результат-последствия» соблюдён с ограничениями: в первых абзацах достаточно «места», но не хватает «времени»: понятно (из конкретного указания) что это – Шервудский лес и Ноттингем, но лишь к концу главы (точнее, к началу второй) я уверяюсь в том, что это - именно, те самые легендарные места. Но читатель и без меня разберётся, когда и где он находится, а герои автора — это образы-личности, поступающие по ситуации, что относится и ко всем действующим лицам повествования. Конфликт «плохой» -«хороший» (в «Шерифе…» этих характеристик больше) раскрыт достаточно и не напрягает излишними оборотами. Лаконичный минимум описаний ускоряет процесс чтения, не тормозит и не вызывает раздражения со стороны читателя ( в данном случае, конкретного). О композиции было сказано выше. Сейчас же хочу упомянуть, что она вполне достаточна, как «скелет» для всех «органичных тканей» повествования: последовательна, оправдана простотой, достаточна для изложения литературного материала. Само повествование логично и последовательно, есть «рояли» и сюжетные линии, но ни те, ни другие не противоречат друг другу.
2. Достоверность событий, обоснованность их использования
В данном контексте события и образы воспринимаются достоверно, а допущения (отношение к «заклёпкам» и канонам) вполне обоснованы самим жанром. И они существуют в видимой связи, показаны автором, как единое целое: образы соответствуют событиям, а события вызывают соответствующую образную реакцию героев «Шерифа…». Стандартов нет – индивидуализм определяет всё. Однако, оставаясь в избранных «рамках», автор это делает уверенно - иногда даже дерзко: везде чувствуется и настрой, и подход - ничем не прикрытое стремление соответствовать авторской концепции «Шерифа Ноттингемского». Упоминание «сэр», как обращения в контексте диалога сержанта и шерифа, не является правомочным. Кто они норманны или саксы? И на каком языке говорят? В это время вся знать и власть – потомки нормандцев Вильгельма Завоевателя, сохранившие и язык, и культуру, и властные структуры предков. Потому обращение «сеньор» (старший, главный, господин – нормандский этикет) будет звучать убедительнее. Мы не знаем (автор умолчал) титул шерифа Ноттингемского, потому дальнейшие рассуждения излишни, но за обращение к собственному сеньору (в любом случае, господину) уничижительно «шериф» (вот так запросто, даже в устах самого заслуженного из низшего сословия) могло закончится виселицей за нарушение сословных отношений. Но… Мне такой оборот показался интересным, даже вполне уместным. Сержант мог быть саксом, потому шериф и не воспринимает его обращения, как оскорбительные, потому что уже привык к ним, потому что старается понять этот завоёванный мир и жить с ним в согласии. И это - очередная монета в копилку образа самого шерифа. А ещё мне сразу пришла на память шутка В.Скотта про «господ» и «мясо». Вот такая вот ассоциация. А читатель вряд ли станет вдаваться в такие подробности или осуждать автора.
3.Сюжет - развитие, гладкость, понятность, последовательность, воспринимаемость
Сюжет формируется с самого начала «Шерифа…», а его (сюжета) развитие распространяется на другие главы. Сюжет развивается, отнюдь, не предсказуемо, тем более, что он достаточно динамичен. И читатель следует за автором без претензий или явного неудовольствия. События развиваются в двух местах: Шервудский лес и Ноттингенский замок. И этих локаций хватает, чтобы выстроить историю отношений основных героев «Шерифа…», не ограничивая их двумя сюжетными линиями. Новизна сюжетного взгляда на известные события заявляется уже в самой аннотации:
Теперь он не положительный персонаж, как у Вальтера Скотта и Дюма, а просто разбойник. Шериф Ноттингемский напротив - доблестный служитель порядка.
А может так и нужно? В любом случае «разбойники» остаются преступниками, людьми преступающими, пусть нордмандские, но, всё же, законы, а шериф – настоящим блюстителем «власти и порядка», где политика и власть занимают не последнее место. Каждый должен оставаться собой, без сомнений и колебаний. И это придаёт «Шерифу…» приключенческий характер. Но эти приключения не ради приключений, а только для заострения смысла ситуаций, в которые попадают герои повествования.
4. Диалоги - информативность, живость, реалистичность, характер и восприятие прямой речи
Диалоговых моментов не так много, но достаточно, для формирования образов участников конфликта «разбойник – шериф». Образная речепередача не имеет перекосов: все говорят «своим» языком и на своём языке. Много иронии, граничащей с сарказмом. Но основным инструментом формирования образов, всё же, является авторская описательность. Когда герои «Шерифа…» говорят, мы уже знаем , как они выглядят, чем живут, во что верят. Речевой индивидуализм иногда размыт, потому что не является сильной стороной «Шерифа…». Я понимаю, для автора важнее, что его герои делают, а не то, что и как они говорят. В избранном жанре стилистика речи не стоит так остро и определяюще, как в классической исторической прозе. Главное, читателю понятно, что это говорит шериф, а это – Робин, а это – сержант.
5. Герои - читательское видение, авторские вложения
Главный герой - Ноттингемский шериф воспринимается мною, как «герой своего времени». Герой, не лишённый эпохального драматизма: он и силён, и слаб одновременно. Шериф трагический персонаж, а его трагедия в том, что он фанатично прямолинеен в своей вере в закон и предан ему. При всём этом, как личность, шериф склонен к колебаниям в решениях, полон сомнений. По его мнению, закон всегда прав, а люди просто обязаны ему следовать. Он ловит разбойников по закону, не понимая, что закон написали другие разбойники, разбойники от власти, покорители свободолюбивого народа, по сути - захватчики.Шериф Ноттингемский никак не может понять - то, что вчера было нормой- сегодня уже преступление, то, что преступление сегодня - завтра норма. И эту норму определяет сама власть, которой беззаветно служит шериф Ноттингемский. Шериф не обсуждает и не осуждает законы – он им следует, заставляя делать это и других. Сам он давно воспринимает анго-сакский мир своей Родиной. Власть меняется и этот мир рушится следом за ней. Вот в чём и заключается трагедия честного и бесхитростного, но незамысловатого, недальновидного шерифа Ноттингемского.
А что же новый Робин Гуд, разбойник от Наиля Якупова? Романтический, легендарный налёт счищен автором, как вредоносный слой ракушек со дна судна. Как человек, он - образ глубоко отрицательный, аморальный, с разбойничьими повадками и соответствующим мировоззрением. Как легенда - народный мститель, герой. Но помнить будут легенду, а не человека. Потому что она обращается к естественной человеческой природе, народному чувству справедливости. Которые, в отличие от человеческих законов, одинаковы во все времена. Робин Гуд из «Шерифа…» - конченый для общества тип, который живёт по своим законам-понятиям, и его не волнует государственная целесообразность. Но, по сравнению с шерифом, Робин – личность сильная, не знающая колебаний и сомнений. Все свои действия разбойник оправдывает необходимостью борьбы с захватчиками, богатой знатью, властью. Ради этого он и убьёт, и обманет, и предаст, потому что подобное вполне в его характере. В этом его двуличность.
В итоге, шериф Ноттингемский от Наиля Якупова не противник для его Робин Гуда – первый заведомо обречён на проигрыш, второй – на победу, потому что шериф изо всех сил держится за принципы, оставаясь ревностным служакой, а Робин – беспринципен, потому и свободен в выборе средств для борьбы с властью. Так будет всегда, пока, с той или другой стороны, не появится третья сила, способная завершить противостояние. Революционный настрой «Шерифа…» уже чувствуется, но глас народа ещё не прозвучал. Да и образ самого народа эфемерен и мимолётен.
6. Стиль и язык автора — восприятие и читабельность
Стилистика текста вполне соответствует жанру, выбранному автором за основу для «Шерифа…». Да это – трэш-натурализм, как инструмент для демонстрации неореалистических и постмодернистских идей. Я видел в комментах его определение, как «юмор – юморизм»,т.е. интеллектуальную способность автора – читателя подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны. Чувство юмора связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире. Но Наиль Якупов не комик и, уж точно, не юморист. «Шериф…» же полон социальной иронии, граничащей с сарказмом, как у М. Зощенко. Юмор только гладит нервы, а сатира бьёт по ним током авторской издёвки. Чего только стоит образ рыцаря Маузера Скотта. Германская фамилия Маузер датируется XV в, Скотт – вообще шотландская, да он ещё и рыцарь, непонятно что делающий в то время в Англии. Рыцарство (подобное английскому) в Шотландии датируется концом XIII и началом XIV в. Но, если есть «вальтер», то почему не быть и «маузеру»? В чём сарказм? Немецкий шотландец непонятного назначения (без Родины, без земли, без власти, без наследства), то же самое, что и «король Джон» (John Lackland) – Иоанн Безземельный, по сути и не король вовсе. И этому человеку так верно служит шериф Ноттингемский.
7. Завлекательность текста в целом. Рекомендации будущим читателям
Конечно, начать литературно знакомиться с историей шерифа Ноттингемского и Робина Гуда можно по романам и следующим произведениям:
Вальтер Скотт, «Айвенго». Здесь Робин Гуд впервые вошёл в европейскую литературу Нового времени (в качестве второстепенного, но очень важного действующего лица).
Александр Дюма, «Робин Гуд — король разбойников».
Александр Дюма, «Робин Гуд в изгнании».
Говард Пэйл. «Весёлые приключения Робин Гуда»
Дональд Энгус, «Робин Гуд. Разбойник».
Стивен Лоухед, трилогия «Король Воронов» («Гуд», 2006; «Скарлет», 2007; «Тук», 2009).
Диана Кинг, «Робин Гуд»
Эскот Лин, «Робин Гуд и его весёлые друзья»
Михаил Гершензон, «Робин Гуд».
Леонид Филатов, «Большая любовь Робин Гуда».
Елена Хаецкая (под псевдонимом Меделайн Симонс), «Меч и Радуга».
Софья Радзиевская, «Тысячелетняя ночь».
Ирина Токмакова, «Робин Гуд»
Анна Овчинникова, «Друг и лейтенант Робина Гуда» (книга в жанреисторической фэнтези о нашем современнике, который волей случая оказался в средневековой Англии и стал верным соратником Робина Гуда, известным впоследствии как Маленький Джони).
Кэтрин Ласки. «Девушка-сокол» (книга в жанреисторической фэнтези, где главным действующим лицом является Дева Мэриан, понимающая язык птиц и способная перевоплощаться в них).
Тадеуш Крашевски. «Робин Гуд», «Марианна, жена Робин Гуда» — Робин Гуд предстаёт сыном англосаксонского дворянина, чьё имение было уничтожено, а сам он убит во времена нормандского ига. Роль угнетателей подчёркнуто отводится правящим в Англии нормандцам, в то время как остатки англосаксонских помещиков ведут патриархальный образ жизни и страдают от произвола наравне с простым людом.
Кир Булычёв, повесть «Драконозавр».
Далия Трускиновская, «Люс-А-Гард» (книга в жанреисторической фэнтези)
Айлин Вульф, «Лорд и леди Шервуда» (книга в пяти томах в жанре исторической фэнтези)
Айлин Вульф, «Друзья и недруги» (книга в двух томах в жанре исторической фэнтези)
Но сам жанр, указанный в аннотациях этих книг, может отпугнуть привередливого читателя. И , возможно, ему захочется начать своё знакомство с легендой именно с «Шерифа Ноттингемского» Наиля Якупова. И ещё, тем, кто читал, хоть часть из указанного списка книг, тем более, будет интересно альтернативное мнение автора «Шерифа Ноттингемского». Всё вышеперечисленное стало классикой взгляда на историю средневековых героев, но всегда хочется свежего литературного веяния, свежего взгляда. Легенды не стареют, как и вечные истины. Но взгляды грядущих за ними поколений, изменчивы согласно переживаемой эпохе.
8. Заключение -резюме
Может быть, я и приверженец классической исторической прозы, но мне до самого финала было интересно, какую же точку поставит автор «Шерифа…» в своей интерпретации известной легенды. Да, в тексте имеются шероховатости, но для меня они не стали решающими в оценке. Главное, я получил впечатления. Мне всегда казалось, что автор, вступивший на литературную стезю этой легенды, должен быть сродни классикам жанра, таким как В. Скотт или А. Дюма. Оказывается можно и не быть ими, но написать достойное современности, современному взгляду на далёкое и не наше прошлое, произведение. Нужно ещё отметить, что я прочитал «Шерифа…» одним из первых, и вот с тех пор, хотелось выразить своё мнение по его поводу. Обоснованное мнение. Простите, что обоснование заняло столько места. Хочу сказать, что Наиль Якупов трепетно относится к своему «историческому» детищу, потому и обсуждение наше по поводу выхода "Шерифа..." было длительным, но (личное мнение) плодотворным. Всё, что сказано в рецензии, лишь моё видение и моя точка зрения на «Шерифа Ноттингемского». Удачи автору!
