Ретроспектива "Победители и побеждённые". Авторские откровения
Автор: Вячеслав Паутов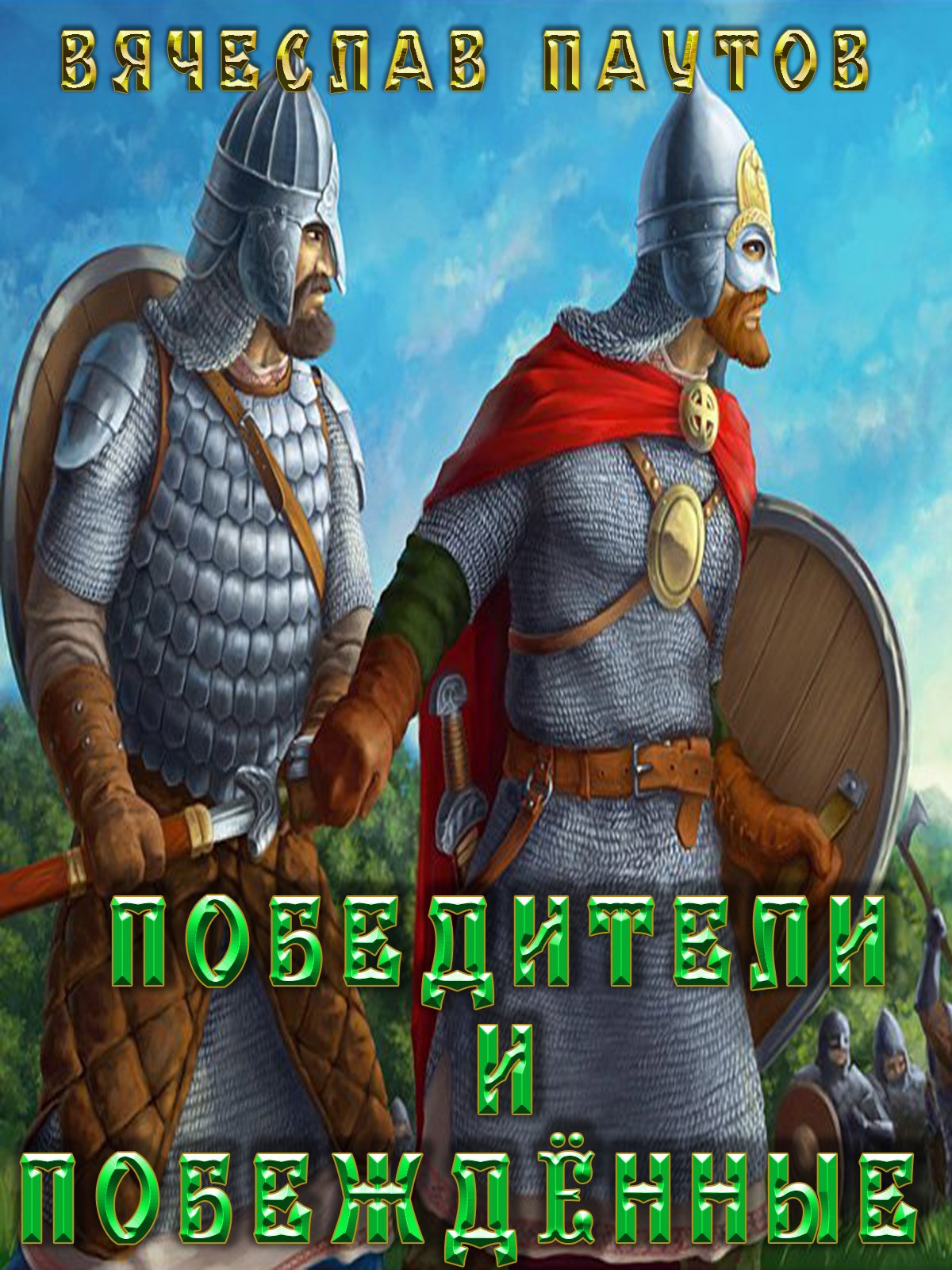
Используя опыт авторских пояснений к первому литературному поединку "Кабачка..", хочу провести подобную параллель и для своего рассказа. Вникнув в обосновательные моменты и истинную подоплёку стихотворения Рене Маори, я понял и его истоки, и эмоциональную направленность, а откровения автора стали посылом для собственного анализа "Победители и побеждённые". Речь пойдет, отнюдь, не об оправданиях или осуждении непонятости (с этим не было никаких проблем), а о детализации и пояснении авторской позиции, её отражении в рассказе.
еВыбор темы совпал с названием моей литературной работы. И это тот случай, когда сама тема определила направление повествования, обостряя основные понятия: победа-поражение, победитель-побеждённый, жизнь-смерть, добро-зло, мир-война, люди-другие живые персонажи... Эфемерность, относительность, недолгосрочность, искажённость этих явлений сторонами любого вооружённого конфликта стали основными смысловыми посылами рассказа.
Историческая подоплёка повествования и авторские допущения
Я не минуты не сомневался, что мои читатели-соотечественники знают о военно-политическом конфликте Вадим-Рюрик развернувшемся в IX в., о борьбе славянского князя-новгородца (относительная привязка) Вадима с вождём северян-варягов Рюриком, пока лишь предводителем ладожских поселенцев, о бесславном конце самого Вадима (лично мне он бесславным не кажется), о захвате Рюриком Новгорода и обретении статуса славянского князя, точнее будет, князя славян (словен - по историческим источникам). По летописным материалам действия происходили и в самом Новгороде, и его окрестностях. Однако (об этом сообщает эпиграф) данная информация подвергается обоснованному сомнению. И на этой основе я перенёс первую часть противостояния Вадим-Рюрик в Ладогу (Альдейгьюборг по-скандинавски). Вот в этом и состояло авторское допущение. Существует внушительный перечень произведений литературно-художественного плана о борьбе Вадима и Рюрика (желающим могу скинуть в ЛС), но нет однозначной трактовки этих литературных образов в градациях "плохой-хороший!, "правый-неправый", "добрый-злой", каждый писатель обосновывал свои воззрения поступками названных героев, их речью и мнением сторонних персонажей.
Борьба же Вадима не зря считается его современниками и проецируется, как восстание (эпиграф к рассказу), что и отражено Никоном в своей летописи - этого князя поддерживали разнообразные слои славян, для которых сам Рюрик представлялся захватчиком-иностранцем. Но суд и политику вершат властоимцы, потому после гибели Вадима новгородская верхушка, устрашённая необузданным нравом Рюрика и умелостью его воинов, склонила головы и "взяла сторону варяга". А дальше... Дальше началась известная всем история Рюриковичей.
Литературно-художественные инструменты, используемые в рассказе
Исходя из названия, главный - сравнения-противопоставления. Любое явление, событие, людская среда, эмоции и характеры для восприятия имеют противоположные стороны, а сравнивая их наблюдатель сам приходит к выводу-выбору, сам решает "кто есть кто и какой" ( и даже почему). Самое главное сравнение противопоставление, к большому моему сожалению, не было воспринято лояльно. Вторая часть недвусмысленно противопоставляется первой, целая часть, а не фраза - фразе, описание - описанию, герой - герою. Потому что Годимир, а тем более Рогдай, совсем не Вадим, вовсе не Рюрик, а другая сторона в этой печальной истории - сторона будущего, моя сторона в этом конфликте интересов и судеб. Основное же сравнение-противопоставление - образы Вадима и Рюрика, характеры противоборствующих.
Второй вариант сравнения-противопоставления, который, может, исключительно, по моей вине "не выстрелил". Мысли Рюрика во время боя, но давайте по-порядку. Сперва мысли Вадима:
Известие о гибели семьи ненавистного нурмана лишь подхлестнуло волну нарастающего злорадства словенского князя, стало для него отражением превосходства над обороняющимися, отозвалось крепкой уверенность в победном исходе набега. Убивать, колоть, рубить, резать, рвать зубами, но не останавливаться ни на миг, ни перед чем - поскорее покончить с простыми варягами и добраться, наконец, до горла самого Рюрика, их альдейгьюборгского вождя - эти мысли плотным липким туманом заволокли всё естество словена. И князь спешил, спешил, спешил, торопил приближение долгожданного конца..
А теперь мимолётные рассуждения Рюрика:
«Варяги, как странно называют нас словене, - с первого дня пребывания в Альдейгьюборге размышлял Рюрик, размышлял и дивился, — в Византии-Миклагарде наёмных воинов северян зовут варангами и берут в гвардию басилевса, на родине, в Ютландии - вэрингами, здесь же — варянгами-варягами... Но ни один варанг доселе не обладал властью над другими людьми, не считался вождём или, как именуют его словене, князем... Так кто же я для всей этой чужой и чуждой округи - вождь-конунг, князь или наёмник с Севера, пришедший удержать власть призвавшего его? Почему я теперь стал забывать своё родовое имя — Хрёрек, и всё чаще отзываюсь на словенское Рюрик-Рёрек, кажется так они называют сокола-охотника ».
Да о смерти он думал, а не о своём имени. Потому что, погибни человек, и что от него останется : имя и слава, или бесславие и безыменье, а так же вспоминать люди будут кто он был и откуда. И всё потому что (конец предыдущей фразы):
у него была всего одна голова и одна жизнь...
На временной (эпохальной) стилистике речи останавливаться не буду, кажется удалось всё.
Описательность, эффект присутствия, реалистичность-реальность мне кажется удались, но опять проскользнуло замечание о многословности, многоплановости предложений. Неверно, от этого я не избавлюсь никогда - принимайте таким, каким я уже есть.
Авторские пояснения на конкретные замечания читателей и судей
О "размышлениях Рюрика в опасный момент сражения по поводу имени" уже сказал
Не согласен с категоричностью Влада Ларионова: термин "городище" может быть использован с точки зрения средневекового градостроения , минуя археологическую. Как и суда, отмечаемые как военные плавсредства:
Судно — плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и других целей.
Меня упрекнули (мнение Влада Ларионова) в превознесении (героизации) варягов над славянами. Это не соответствует истине. Короткий пример по тексту.
Группа дружинников, разобравшись попарно: щитобоец и ударник, встала в десятке шагов позади всё ещё раскрытых ворот Альдейгьюборга. Теперь уже словене явили слаженный и яростный напор: щитобоец ударом боевого топора, так похожего на варяжскую секиру, отбивал щит варяга вниз, ударник же рубил открывшееся плечо или шею врага. Остальные воины князя получили возможность свободно выйти за частоколи перестроиться. Полсотни оставшихся дружинников Вадима, покинув горящее городище, расположились полукругом перед его воротами, дабы встретить хозяев рядами копий.
Отчаянной казалась отвага обречённых словен - никто не обратился в бегство, никто не попросил пощады, никто и не помыслил сдаться. Они гибли один за другим там, где стояли...
Здесь текста почти столько же, сколько посвящено отваге варяжских смертников. Не вижу никакого ацента на последних. Существует и историческая реальность - варяги Рюрика победили и в этом бою, и в последующих. И нет здесь никакого намеренного акцента на варягов, как утверждает Влад Ларионов. За что мне "героизировать" Вадима, который сам напал на Рюрика и сжёг его крепость? Разве не люди Вадима вырезали семью Рюрика? Именно их нужно превознести и назвать отважными героями?
И последнее... Поединок позволил мне отойти от темы "викингства", взглянуть теперь на историю нашей страны, Руси. И уверяю вас, дорогие читатели и коллеги-авторы, понятия "викинги " и "варяги" совершенно разные и несовместимые. НО это тема уже другого поста.
