Обзор творчества В.О.Пелевина. Часть 13. "Смотритель" (2015)
Автор: Даниил Смит
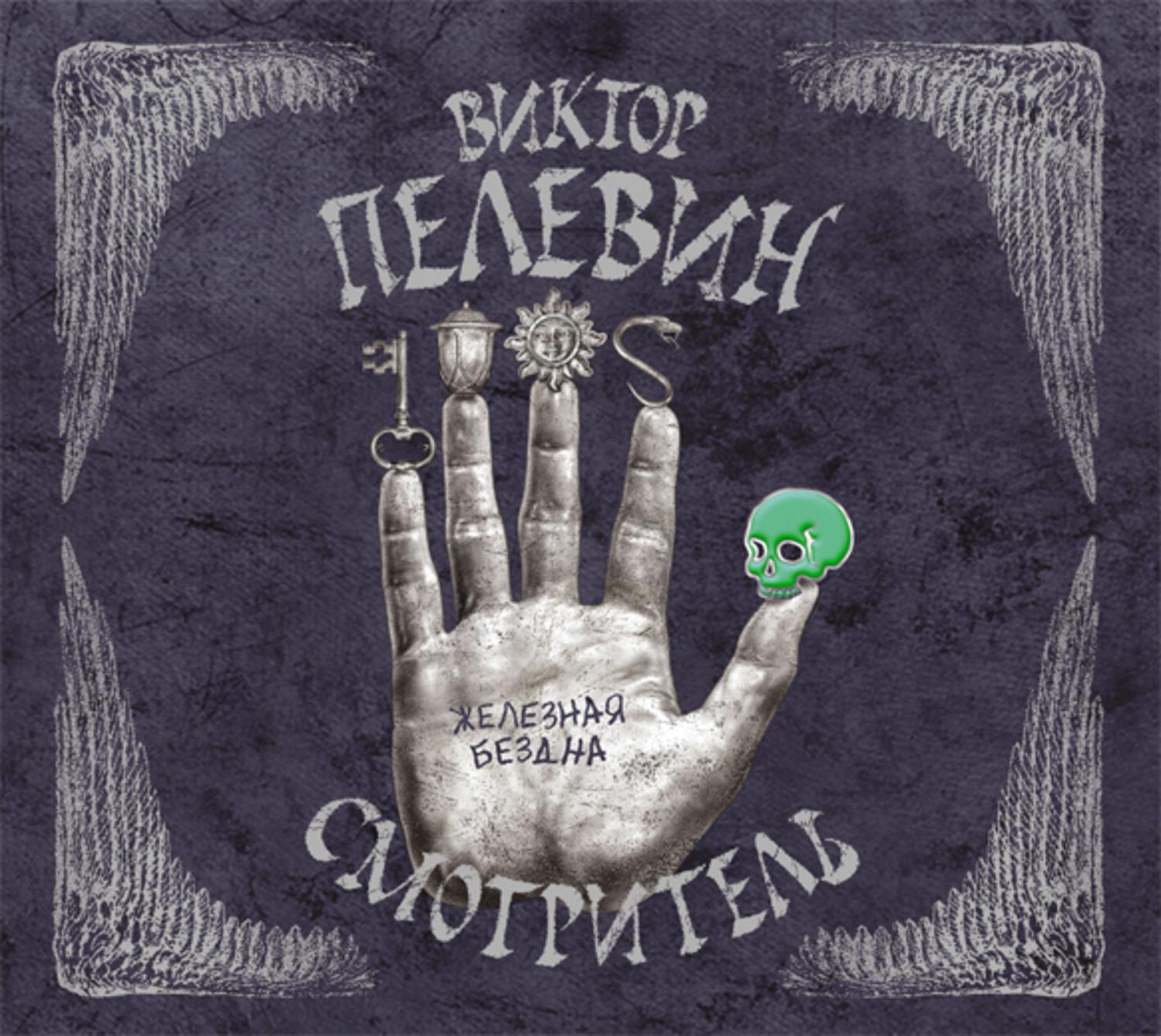
Роман Пелевина "Смотритель" вышел в 2015 году разделенным на два тома - суммарным объемом около 17 а.л. По сравнению с другими книгами - что тут двухтомного? Можно было бы разделить просто на две части внутри единого издания, как было в "t" или "S.N.U.F.F."... Автор играется с формой, пытаясь придумать что-то новое если не в высказываемых идеях, то хотя бы в их внешнем отражении.
Очередное "перекладывание авторства" на главного героя вкупе с фразой из аннотации ("О чем эта книга, будет зависеть от читателя и от его выбора") также говорят о все более заметной "усталости" Пелевина, о том, что он исписывается, что у него больше нет ясных, острых сюжетов. Так ли это вообще, покажут время и прочтения еще более поздних произведений, а пока приходится признать это "рабочей гипотезой".
Действие романа происходит в вымышленном (во всех смыслах слова) мире под названием Идиллиум, который представляет собой, по одной из версий, некую "тень" Земли, технологически отстающую от нас, и похож на дзен-буддистскую версию Российской империи. Там есть своя "святая троица", как раз и создавшая однажды эту необычную "реальность": Павел I, Франц-Антон Месмер и Бенджамин Франклин. Первый основал династию Смотрителей - местных правителей в некотором роде метафизического происхождения; второй придумал технологию поддержки существования Идиллиума и, по местным верованиям, по своей воле растворился во Флюиде, из которого состоит вообще все; третий также обрел незримую "вечную жизнь" и навсегда снял проблему обеспечения нового мира музыкой. В Идиллиуме действуют два ордена: Желтого Флага и Железной Бездны; первое название символизирует духовные поиски и опыты с концентрацией внимания, лежащие в основе создания так называемыми "соликами" личных мирков на окраинах Идиллиума, второе - наш "безблагодатный" мир, дающий своей "тени" песни и технологии...
Не буду описывать весь антураж, который в книге показан очень подробно, перейду к галвному герою. Это некто Алексис де Киже, "наследник" старинного рода, кандидат на пост будущего Смотрителя. В нем можно увидеть черты других пелевинских "молодых" персонажей: Петра Пустоты, Ромы Шторкина, даже немного от "орка" Грыма... Но Алекс еще более "пуст" и аморфен, чем все они (в романе этому есть довольно остроумное объяснение), поэтому возникающие в нем чувства заполняют его доверху, завладевают его разумом - но на короткое время, потому что герой не чужд самоанализа по методике Желтого Флага... Но, конечно же, в авторской вселенной это лишь условное выражение, потому что - кто вообще такой "он" и что такое разум? Понятия, лишенные смысла... Также внутренней особенностью персонажа является развитое воображение, которое в различных ситуациях предстает как обоюдоострое оружие в связке со способностью к убеждению: и помогает выполнять необходимые ритуалы, и становится вдруг опасностью, заводя Алекса в дебри надуманных угроз, материализующихся на том слое "реальности", где он в тот момент находится...
Заслуживает рассмотрения и героиня романа - некто Юка, юная выпускница "монастыря" Олений Парк и с некоторого времени подруга и спутница Алекса. Будущего Смотрителя заставляет поначалу смущаться и стремиться к лучшему ее внешняя идеальность; кажется невероятным, но Пелевин как будто реанимирует в творчестве позабытое чувство любви, на останках которого изрядно потоптался в "S.N.U.F.F.". Но впоследствии Юка оказывается умело сделанной лично для де Киже иллюзией, напоминающей своим механизмом сам Идиллиум, поведение которой - непрерывно придумываемый и разыгрываемый медиумами спектакль. Автор будто бы ставит вопрос о том, можно ли любить иллюзию, испытывать чувства к образу, кажущемуся менее реальным, чем тот, кто хотел бы любить, - и этим, судя по всему, развивает в новом ключе тему виртуального извращенства из "...цукербринов". И то, что герой предпринимает усилия для того, чтобы сделать Юку "настоящей", показывает, казалось бы, что для моральных и положительных людей это невозможно и им обязательно нужно наличие в любимом образе живой души... Но главное свойство живого - создавать субъективные проблемы силой своего неудовлетворенного любопытства, а узнавать почти никому не известное о мире бывает порой неприятно и ошеломительно, что также порождает проблемы, связанные уже с осмыслением знаний. Ну и, к тому же, живое не вечно. И финал книги в этом плане становится бесстрастным взглядом свыше на эту проблему - приводит читателя к мысли, что вообще не важно, что любить, - потому что мы сами не более реальны, чем создаваемые нами же или для нас иллюзии. И любая любовь на самом деле лишь практически незаметные колебания мирового Флюида...
Концовка оставляет ощущение крушения каких-то надежд, перехода от стремления к идеалу и поисков истины к ровному, размеренному существованию в циничном осознании своего реального безграничного неведения. Возможно, так автор намекает на бессмысленность этих исканий, представляющих собой погоню за иллюзией.
Однако что же всё-таки такое - мир? Какую новую версию Пелевин предлагает на этот раз? Тут-то и включается объявленный в аннотации "выбор читателя". В книге есть три версии, три метафоры, имеющие чисто абстрактную ценность:
- а) мир - это симуляция какой-то компьютерной программы, созданной высшим существом для своего развлечения;
- б) мир - это распространяющаяся во времени волна Флюида;
- в) мир - это "кристалл с безмерным числом граней, который можно повернуть как угодно".
В принципе они не очень противоречат друг другу, но каждая заключает в себе собственный смысл. К примеру, первый вариант развивает идею о подчинённости мироздания и людей какому-то высшему алгоритму из "Бэтмана..." и "...цукербринов" и подтверждает эфемерность, "виртуальность" всего "сущего", представляющего собой грубый слепок с "истинной" реальности, куда стремилась лисичка А... Второй подразумевает, что, согласно принципу Гюйгенса, каждая точка фронта волны является источником вторичных волн, одной из которых как раз и является Идиллиум. Третья возможность мыслится наиболее неоднозначной и в одной из возможных трактовок - мол, мир подчиняется усилию воли и поворачивается так, как нам удобно, - противоречит первой и здравому смыслу (если вспомнить идею о желаниях, однажды отклоняющих вектор судьбы в нужную сторону, то просто следует выразиться в формулировке менее категорично). Поэтому я считаю более правильным - и характерным для Пелевина - смыслом то, что не сам мир поворачивается по нашей воле, а просто мы переводим внимание с одной грани кристалла на другую и перестаём замечать предыдущую, а сами думаем, что это кристалл вращается.
Но над всеми версиями всё же довлеет максима о том, что это вообще не важно. Ведь это всего лишь слова, по определению не имеющие смысла, так как на самом деле нет ни их, ни тех, кто их произносит, ни этого "самого дела", ни мира, ни пустоты. Есть один лишь Флюид... но и это неточно.
