Рейд на ТОПов... записки разбитого корсара
Автор: Давыдов Игорь Олегович
Рейд закончен.
Надо уметь признавать своё поражение. И я признаю.
Первая прочитанная мной книга дала хороший старт, но далее я забуксовал. Случайно взятая книга Серебрякова была мне не интересна, но я без труда мог понять, почему она может быть интересной другим. Тем, кто не я.
Однако Дмитрий сказал прямо: "та книга писалась мной "для себя", хоть и с учётом вкусов ЦА, а вот "Новая жизнь" писалась строго под ЦА, ни капли здравого смысла я туда не вложил, хочешь узнать секреты моей популярности, они там."
Я думал, что "Новая жизнь" будет идти туго, но будет идти хоть как-то. Ну, вот, не мой автор, но популярные вещи популярны же по какой-то причине. Хотя бы в рамках антропологического исследования стоит ознакомиться. Просто, чтобы понять, как это может кому-то нравиться. Да и, уверен я был, что автор не может не вложить в книгу себя.
Ну... так и есть. Серебряков вложил в книгу себя. Как бы он не старался писать строго под ЦА, не добавляя вообще никаких умных мыслей, его стремление к идеологии чистого разума и т.д. и т.п. сквозит изо всех щелей. Его тяга к прогрессу, к рационализации... так что, мыслей Дмитрий вложил, хотя очень старался этого не делать. И, возможно, оно и придало произведению изюма.
А в остальном книга полное дерьмо.
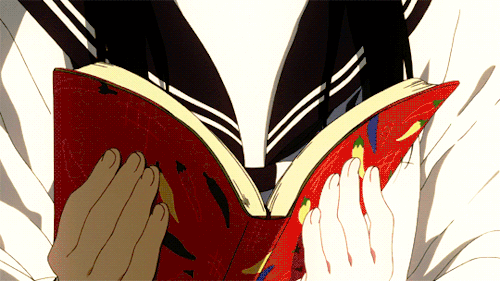
Дерьмо с изюмом, ога.
Сухое, безвкусное. Даже не воняет. Даже не отвратительно. Право слово, я бы лучше прочитал что-нибудь тошнотворно мерзкое. Хотя бы гадливость. Хотя бы какое-то чувство. Но тут же скука смертная!
Дмитрий сказал, что секрет популярности кроется в этой книге. И он посоветовал "Другой мир: Попаданец", хваля автора за то, что тот филигранно попал во все кинки массового читателя.
А я не понял. И мне не охота понимать. Это скучно, что пиздец. Не нужен мне такой секрет популярности. Найду другой. Повеселей какой-нибудь.
А пока вложу черновики в бутылку, да брошу плавать в море
Предисловие
Данный проект родился в пику традиционному для ресурса АТ поливанию ТОПов грязью.
Не могу сказать, что я фанатею от творчества людей из первой десятки нашего писательского обиталища. На самом деле, я никогда прежде не читал ни единой книги от данных граждан. Их работы я взял в руки впервые именно в рамках подготовки разбора, который вы сейчас читаете.
Если вы желаете почитать полный хиханек и хаханек разбор косяков самых богатых и успешных представителей представленного на АТ авторского сообщества, то вы пришли не по адресу.
В конце концов, не важно, как много ошибок допустили ТОПы. Не имеет значения бедность языка, глупость сюжета и прочие выводящие из себя снобов, вроде человека, написавшего эти строки. Не столь важно отсутствие недостатков, сколько наличие достоинств.
Готовясь к этому проекту, я взял на себя обязанность прочесть по одной книге каждого из занимающих первые десять позиций рейтинга авторов. Независимо от того, понравится мне это или нет. Моя цель не найти косяки, о которых, впрочем, будет упоминаться просто для того, чтобы придать разбору контекст. Я хочу именно что понять, что именно цепляет читателей, и каким образом ТОПы удерживают читательский интерес.
Ведь сколь ни была высока роль рекламы и прочих маркетинговых трюков, все они годятся именно для того, чтобы привлечь потребителя. Но они не способны его удержать. Что заставляет народ, после прочтения первой бесплатной книги кидаться на платную? Что заставляет их дарит наградки и ставить лойсы?
Крайне рекомендуется лично ознакомиться с каждой из книг, по которым будет проходить разбор. Написанный текст изначально подразумевает, что вы в курсе, о чём идёт речь. Также, в тексте данного проекта вас могут ожидать злые и коварные спойлеры.
Вас предупреждали. На сём предисловие заканчивается, и начинается актуальный разбор.
ТОП-10. Роман Романович. “Злоба”
Итак, Роман Романович. “Злоба” => https://author.today/work/73488
В целом, мне совершенно несложно понять, что именно удерживает читателей у данного автора.
И это отличный пример, потому как текст “Злобы” просто плачет даже не по редактору, а по корректору. Иные из ошибок просто вымораживают. Те же вечные проблемы с “е” и “и” в конце слова. Чего только стоит это бессмертное “на гране” вместо “на грани”. Про куда более сложные вещи, вроде извечного непонимания, как работают деепричастные обороты, и говорить нечего. Все эти “пройдя половину пути, началась пустыня” то и дело лезут в текст.
Но люди читают.
Потому что не столь важно отсутствие недостатков, скольналичие достоинств.
Несомненно, были снобы, которых отпугнуло обилие ошибок и общая небрежность. Были те, кому пришёлся не по душе стиль… хотя, какой там стиль? Это черновик. Невооружённым глазом можно увидеть места, где автора отвлекли посреди написания предложения, а затем он вернулся и закончил мысль другими словами, не осознав, что это не вяжется с началом этого же предложения. Поэтому, я и правда не знаю, где там отсутствие у автора минимального чувства прекрасного, а где – банальное отсутствие даже одиночной вычитки.
Но, как мы видим, количество людей, приходящих к книге за историей, а не за авторским слогом, достаточное, чтобы вывести автора в ТОПы.
Приходить в книгу за сюжетом и историей. Какой бред? Кто вообще так делает? Читатели же все до одного хотят только лишь мастурбировать на изящную словесность, так ведь?!
Итак, своё “фи” высказали? Тогда пойдёмте разбираться, что в книге сделано хорошо.
А в ней сделано хорошо достаточно, чтобы она нравилась мне. Нравилась до самого конца, пока не предала меня… но обо всём по порядку.
Первая глава
Первая глава – одна из важнейших штук в книге. Именно от неё зависит, будет ли читатель собственно, читать произведение. Ведь “Первая глава продаёт эту книгу, а последняя – следующую.”
Романыч решил воспользоваться игрой на эмоциях и вдарить лёгкой порцией шок-контента. Как мы поймём позже, работать с шок-контентом Романыч умеет просто на пять с плюсом. Ни разу за всё время чтения “Злобы” я не испытывал откровенного отвращения и желания захлопнуть книгу, а мы, на минуточку, говорим об истории, в которой однажды главный герой тонет в говне. В самом прямом смысле данного выражения.
Шок-контент в первой главе выдаётся малыми терапевтическими дозами. Мир описывается грубыми неаккуратными мазками. В плане подачи информации эти мазки проваливаются полностью, ибо ещё главы три-четыре читателю будет сложно окончательно определиться даже со стилистикой мира. Но вот в плане эмоций всё выполнено хорошо: темнота окружающего пространства прямо чувствуется. Герой на своих руках тащит тело собственного мёртвого отца в крематорий. Городские службы? Акститесь! Тут даже прохожий руки помощи не подаст. А вот убить может. Из страха… из страха перед кем-то, испытывающим слишком много отчаяния.
Потому что в этом мире трупы опасней, чем в любом зомби-хорроре. Они способны обращаться в страшных магических мутантов. Но прямо нам об этом говорить не хотят, а лишь щекочат нервы намёками и оговорками.
И это поистине отличная работа с крючками. С первых строк автор давит на нас как простыми и понятными страхами, так и загадочными, потусторонними. Герой молод. Очень молод. Ему всего шестнадцать лет. А он уже остался сиротой. Вынужден лично тянуть тело отца через грязную улицу до последнего пристанища родителя. Никто не поможет. И даже более того: обхамят и попытаются выставить на бабки. И не где-нибудь, а прямо в крематории, куда не приходят люди, не получившие порцию горя.
К концу первой главы читатель отлично представляет, почему он может хотеть прочитать данное произведение. Иными словами, со своей ролью она справляется на “ура”.
Главный герой
Не раз и не два я сталкивался с измышлениями о том, что главный герой должен быть близок читателю. Желательно, попаданец. Такой же “Вовчег с раёна”, как и “эти быдло читатели”.
И вот, дескать, у ТОПов у всех герой именно такой, потому и “пипл хавает”.
Ну, Романыч мне сейчас отлично подсобит в том, чтобы развеять и это заблуждение.
Так вот, главгерой “Злобы” не “Вовчег с раёна”. Он – маг. Потомственный маг. Из крутого города Эдема.
Но несмотря на данную предысторию он именно что “близок читателю”. Вот только не “Вовчегу с раёна”, а скорей такому стереотипному юному питерскому интелегенту. Хорошему мальчику, который понятия не имеет, как этот злой и жестокий мир может быть таким злым и жестоким.
И именно этим протагонист “Злобы” близок читателю. Не своим происхождением, а своими моральными ценностями. Все же мы хотим, чтобы люди не вцеплялись друг другу в глотку, а помогали тем, кто попал в сложную ситуацию. Все же мы тут офигели бы, окажись внезапно одни в шестнадцать лет в каком-нибудь грязном гетто, полном преступных элементов.
Ну, если не все, то большинство уж точно.
Герой нам близок. Близок даже такому злобному цинику, как я. Потому что его переживания просты и понятны. Родители мертвы. Живёт в скотских условиях. Куда дальше идти – не понятно. О мире он знает, конечно, побольше нашего, но не в тех аспектах, которые полезны для выживания и занимают его мысли. На что жрать? Куда пойти работать, если работы нет, а ты ничего не умеешь? Это не какие-то потусторонние страхи. Это страхи обычные, приземлённые. То, что мог бы испытать каждый из нас. Особенно если он родился не у Христа за пазухой.
И эти страхи будут эксплуатироваться всю книгу. Мутанты? Чудовища? Ну… они, как бы, есть. Но они почти всегда где-то “там”. Они нужны, чтобы ограничить героя, не дать ему сбежать из мерзкого социума. Ведь “там” смерть придёт однозначно, а “здесь” люди живут. И как-нибудь сможет выжить герой.
А ещё – он пустышка.
По крайней мере, в начале произведения. Да, по ходу дела он постепенно обретает личность. В нём медленно прорастает позвоночник, а философские изыски автора оседают в качестве мировоззрения персонажа, делая его выстраданным, а потому – весомым. И следить за этим наполнением интересно.
Но изначально герой пуст. Что я могу сказать о характере протагониста в начале истории? А его… нет. Ну вот, что он? За всё хорошее против всего плохого? Не любит насилие? Хочет кушать и жить в тепле? То злится на мёртвых родителей, что они оставили его, то злится на себя, что допустил подобные мысли?
Это не характер. Не то, что делает персонажа… персонажем. Просто безликая заготовка под личность.
И оцените простоту и изящество решения! Легко ли понять такую вот безликую заготовку? Да! Он не высказывает спорных мыслей! Он не делает спорных поступков! Он всегда будет вести себя так, как вела бы себя “серая масса” из тех, кто любит коллекционировать обиды на жизнь.
Но герой растёт. У его характера есть дуга. Его измышления постепенно подводят к спорным темам и дают на них ответ, и делают это таким образом, чтобы точка зрения выглядела оправданной. Персонаж растит в себе позвоночник. Он обретает характер. Как в художественном смысле, так и в бытовом.
Если в начале герой просто собирает шишки, старательно прикрываясь руками, чтобы не получить этих шишек слишком много, то под конец он грубеет, учится удары судьбы блокировать или хотя бы не морщиться, когда на лбу появится очередной болезненно пульсирующий выступ.
Если в начале истории наш протагонист тонет в говне, то в конце он гордо в нём плывёт, тренируя руки и помогая другим не утонуть.
И, да, даже становясь циничней, герой не становится злым ублюдком. И пусть он не возвращается и не даёт все обидчикам эпичного леща, но он учится стоять гордо под градом неприятностей и даже нарочно расправляет плечи, чтобы за его постепенно становящейся всё более могучей спиной могли спрятаться те, кто слабее.
Он становится тем, кого ему самому так не хватало в самом начале истории.
Это самое классическое “становление героя” из всех возможных, вплоть до повторения базовых аспектов “геройского пути”. Вплоть до классического “враги сожгли родную хату”. Но оно смотрится свежо, потому что герой не мстит врагам (по крайней мере, не в первом томе), а строит свою собственную жизнь с нуля, по кирпичикам.
Да, можно возмутиться, что этот сюжет банален, заезжен до жути. Но он потому и заезжен до жути, что работает. Превращение из “никто” в “кто-то” никогда не отпустит умы людей. Они желают этого так сильно, что готовы потреблять эту историю в любом виде.
А ведь у Романыча оно и выполнено не самым худшим образом. Опять же, не в плане языка, а в плане течения событий истории. Рояли баланс не ломают, а лишь увеличивают пространство решений, ведь каждый из этих роялей легко потерять, получив по голове тупым тяжёлым предметом, стоит только попытаться ими бездумно воспользоваться. А герой думает. И думает много. И меня это, вне всякого сомнения радует.
Но самое главное, что герой становится “кем-то” именно что в результате вдумчивого выбора своего пути развития и тяжёлого труда, а не “патамушта система”.
Система тут палочкой выручалочкой не является. Скорей соломинкой.
Система
Иронично, что пред нами книга нет ЛитРПГ, не РеалРПГ, а прокачка толковей чем в большинстве образчиков этих жанров, которые я встречал за свою жизнь.
Итак, местная система хороша в своём исполнении.
Начнём с того, что является она в книгу только в середине. А до тех пор мы наблюдаем из главы в главу лишь полосу “загрузки”.
7%. 15%. 86%. 99%.
Это донельзя простой и примитивный но действенный крюк, который сам автор бездарно слил, запихнув в примечания на странице произведения дисклеймер: “в книге есть система, но это не ЛитРПГ”. Роман Романыч, да шотш вы так?! Взяли и себя же спойлернули. А ведь тут, между прочим, саспенс был и ожидание неизвестного. А получилось что? “Окей, как процентики прибегут, так появится великая СИСТЕМА!”
Хотя, это я со своей снобской колокольни сужу. Быть может, Романыч лучше меня знает свою аудиторию, и понимает, что те хотят не чего-то неизвестного, а именно что той самой СИСТЕМЫ. И следят они за процентами не с волнением, в предвкушении неизвестного, а именно что елозят на стуле, ожидая, когда же придёт ОНА?!
Тонкость в том, что система в “Злобе” не надо быть похожей на ЛитРПГ. В смысле, ей никто не запрещает, и у этого решения есть обоснуй в тексте, но по факту… это не игровая система. Это система для автономного обучения магуев. Просто выполненная “в игровой форме”. И я не исключаю, что Романыч старательно натягивал сову обучения на глобус шаблонной ЛитРПГ, лишь бы привлечь любителей этого дела.
Но у него получилось. Сове даже почти не больно.
Весь прикол в том, что система не умеет давать плюшки герою. Почти не умеет. Всё, что ей доступно, это давать учебный материал и махать перед носом морковкой завершённых квестов. И то ли из-за того, что система тут прототип одного инди-разработчика, то ли из-за своеобразного чувства юмора этого разработчика, эта система ведёт себя, будто бы старый мастер боевых искусств из соответствующего кино и притч Дзен. Вот тебе квест “преодолей свой страх” и ковыряйся, как хочешь. Награда “вера в себя”. Будешь пойман на жульничестве, получишь магическим аналогом палки по спине.
Развлекайся!
И герой вынужден развлекаться. В смысле, работать. Потому что обучение в игровой форме всё ещё остаётся обучением. А ассоциации с мастером боевых искусств тут тоже не просто так. Система появляется по времени в тот же момент, в который этот самый мастер появлялся в фильмах с Джеки Чаном. И выполняет ту же роль.
Пусть под новым соусом, а становление героя в “Злобе” архетипично. Система – архетипичный наставник. Слепая старуха, являющаяся в тот период времени единственным существом, с которым можно поговорить по душам – архетипичный женский образ, которому положено поддержать протагониста в указанный момент времени.
И именно роль системы в “Злобе” делает систему такой классной. Потому что все мы любим старых ворчливых мастеров боевых искусств. Они мудры, загадочны, потенциально всемогущи, но отказываются делать всё за главных героев, поддерживая их лишь там, где без этой поддержки герой совсем уж сдохнет. А где он просто шишек получит, там мастера смотрят со стороны и ржут себе в шикарные усы.
Местная система занимается примерно тем же. Она соглашается распределить ресурсы самого героя на автоматическую регенерацию, чтобы он, избитый и измученный работой мог на следующий день подняться с койко-места и пойти дальше впахивать, но в остальном “всё сам, всё сам”. Ещё и подстёбывает героя: “квест тебе, спаси всех местных чуваков от смерти, получишь в награду чувство собственной важности, а провалишься – свернёшься комочком и будешь выть от чувства собственной никчёмности.” И это не система так решила. Она просто ткнула героя носом в его же собственные переживашки, которые тот либо не способен до конца осознать, либо боится осознать.
И что в этой ситуации важней? Бережное обращение с проверенными столетиями архетипами? Или грамотно натянутая на глобус традиционных сюжетов сова столь любимой современной общественностью системы?
Думаю, и то, и другое.
Чернуха
Чернуха. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нём отозвалось.
Что ни говори, а народ наш любит чернуху. Это обычно зовётся жЫзненностью. И чем чернушней, тем жЫзненней!
А вот я не люблю. Но, как вы успели понять, мне книгу читать понравилось.
Отчего так?
Всё дело в том, что Романыч виртуозно обращается с чернухой. А ведь это даже не крючок. Это покрытая ржавыми острыми кривыми штырями ловчая сеть. Всю книгу Романыч балансирует на грани между “гы-гы, жесткач” и “фу, какая мерзость, читать невозможно”. Даже когда герой в самом прямом смысле слова тонет в говне, это не воспринимается, как “уже чересчур”. У автора есть чувство меры. Редкая в современном обществе черта, хочу сказать.
Романыч всё давит героя, давит, давит. Но он не позволяет ни персонажу, ни читателю под этим грузом сломаться, подавая всю чернуху порционно и позволяя отдохнуть. Он идеально соблюдает тайминг. Настолько, что уже к четвёртой главе я без труда угадывал, что “вот сейчас будет больно”. И каждый раз было больно именно “вот сейчас”. Стоило только боли героя чуть стихнуть, как тут же приходила новая беда. И так до тех пор, пока бед стало чересчур много.
И тогда пришёл рояль.
Но стоило герою роялю обрадоваться, как тут же стало ясно, что играть на рояле нельзя, за потерю накажут, и вообще, вот тебе тряпка, бери рояль отмывай и иди учи ноты, бездарь!
Думаю, здесь принцип понятен? Я даже не вижу смысла разбирать какие-то отдельные сцены. Все они построены по одному единственному шаблону, с отступлениями от него лишь в период, когда герою было позволено зависнуть “у чёрта на куличиках в гостях у мастера кунг-фу”.
Причём шаблон этот быстро начинает восприниматься, как “закон жизни”. Он выглядит словно бы намеренно прикрученным к определённой местности. Уходишь из неё, жить становится даже проще, несмотря на наличие мутантов и ворчливость слепой старухи. Возвращаешься? Огреби леща!
Но шаблон этот не успевает надоесть. Опять же, благодаря таймингу. Стоит только вам задуматься о том, что это уже наскучивает, как автор сменяет акт, придавая книге новый ритм. И даже возвращение в этот шаблон воспринимается иначе, ведь в начале в рамках шаблона действовал зашуганный ноющий юнец, а после – готовый действовать, воспрявший духом молодой человек, переродившийся в канализациях в нечто новое.
И чем эффективней персонаж, тем злее обратная отдача. В итоге сам герой всё время ходит по краю. Любой островок стабильности под его ногами разрушается. Судьба словно бы намеренно бьёт по самым его больным точкам… хотя, кого я обманываю? Ведь судьба это автор! Естественно каждый удар будет тщательно выверен!
По крайней мере, он должен быть тщательно выверен, если автор хороший. Собственно, выверенность ударов судьбы и отличает хорошую работу от плохой. Да, вам может показаться, что это формульность, недостойная полёта фантазии истинного творца. Вот только этот самый “полёт фантазии” всегда был второстепенен к несколько нудной и даже формульной работе. При написании книги “придумать идею” проще всего. А вот подать её и свести сюжетные линии – уже заметно сложней.
Ведь как оно звучит? “Мир, где тебя убивают твои собственные эмоции, если ты не умеешь их контролировать?” Звучит? Это и есть полёт фантазии автора. Очередное переложение любимой мировыми религиями песни о контроле собственных чувств, перемещённое в эстетику ржавого мезкого улья.
Но ведь идею надо развить. Показать. А что лучше сгодится для демонстрации опасности тёмных эмоций, чем сеттинг, постоянно толкающий героя испытать эти тёмные эмоции. Чернуха здесь уместна. Она и сама по себе крючок, и вспомогательный инструмент для раскрытия одного из главных селлинг-поинтов произведения (помимо упомянутой мной любимой многими системки).
Убери чернуху – развалится повествование.
Убери чернуху – пропадёт целый пласт крючков.
Но убери ты идею, на которую чернуха работает, и получишь страдания героя просто ради факта страданий. Мелодия книги зазвучит фальшиво. А эту фальш чувствую многие, как бы не было принято на этом сайте обсирать ЦА ТОПов, обзывая их “тупым, жрущим говно быдлом”, но люди не таковы. Они так от природы устроены, что чувствуют оттенки отношения к себе.
Хотя… на данный момент я только одну книгу одного ТОПа и прочитал. Быть может, дальше я узрю нечто бесконечно отвратительное и беспросветно мерзкое?
Но не сейчас. Не здесь. Не имеется тут фальшивого гнобления главного героя просто ради гнобления, бессмысленность которого бывает чересчур сложно не заметить. Здесь гнобление подчинено идее произведения.
И из-за этой же подчинённости идее объективной опасности эмоций не бесит и герой в моменты его самопожалейки. Потому что у автора есть удобный щит от любых претензий. Если вдруг герой выглядит слишком жалким, так это из-за влияния магического. Тут же всюду магией фонит. И магия эта цепляется за эмоции (причём именно что за отрицательные), подпитывает их, преумножает. Вон! Сбрасываем магию посредством внешнего инструмента, и снова можем и мыслить ясно, и прыгаем молодыми сайгаками!
Совсем, как страдающий от настоящей, неподдельной, не ванильной, а объективной депрессухи после курса грамотно назначенных препаратов, выправляющих биохимию организма.
О как! Если включить СПГС, как далеко можно завернуть! А вы говорите “книги ТОПов – ничему не учащая жвачка для мозга”. А как начинаем разбираться, так постоянно всплывает что-то новенькое.
Обращение к культурному коду
Кстати, о всплывающем… вы заметили, как часто мелькает то тут, то там, упоминание аспектов, казалось бы, напрямую с книгой не связанных?
Потому что без этого никак. Игра на струнах души потребителя – это именно то, что делает любой продукт наиболее востребованным. А культурный продукт так или иначе должен обращаться к культурному коду. Этот культурный код ведь не на пустом месте возник. Это темы выстраданные. Где отражающие желания народа, а где – его страхи.
Эмоциональное выгорание, депрессия, необходимость лечить нервы медикаментозным путём, потому что сама по себе, без помощи мощной химии психика уже не справляется – в современном мире проблема очень даже актуальная. А вы думали “актуалочка” – это только Путина поддеть?
Романыч взял, по сути, близкую многим проблему, и возвёл её в куб.
Его герой вынужден столкнуться с изматывающим низкооплачиваемым трудом, быстро обращающимся в рутину. Но рутину отнюдь не лёгкую. Но однообразную. Повторяющуюся. Выжигающую изнутри.
Ты просто хочешь жить, но в итоге на тебя навешивается долговая кабала. Вещи, казалось бы, жизненно необходимые, оказываются чем-то, что тебе изначально не положено. Ты не просто хочешь их иметь, ты их обязан иметь, если не хочешь сдохнуть. Но “тебе никто не должен”. Зато ты… “должен всем”. И ты идёшь и отрабатываешь долг. И отрабатываешь. И отрабатываешь.
И молишься, чтобы завтра не случилось очередное нечто, что сольёт все твои труды в унитаз. Что тебя не искалечит. Что твой труд будет хотя бы минимально кому-то нужен.
Быстрое обесценивание навыков. Огромные проблемы с получением какой-либо квалификации. Безнадёга и безысходность.
Монотонный мир, покрашенный в краски серости и детской неожиданности.
Да, это преувеличение актуальных проблем, но… это всё ещё обращение к этим самым проблемам.
А проблемы близкие читателю и их решение, разве это не то, зачем народ вообще открывает литературу? Именно так и выглядит идеальный эскапизм. Не обязательно показывать какого-то далёкого и непонятного тёмного властелина. Обычный быт и борьба с ним, если таковая успешна, затрагивает куда больше ноток в душе человека.
И, да, пусть изначально антураж какой-то чужеродный. Пусть завлекали нас мутантами, чудовищами и магией. Как говорил один мудрый человек: “то, что человеку нужно, и то, что он думает, что ему нужно – это две огромные разницы”.
Читателя завлекли тем, что он искал осознанно, но удерживали тем, чего он хотел на самом деле: увидеть, как кто-то сталкивается с проблемами, которые грозят сломить самого читателя, а затем стать свидетелем тому, как эти проблемы окажутся решены.
Тяжёлый и неблагодарный труд остаётся тяжёлым и неблагодарным трудом даже в мире магического постапокалипсиса.
Ну и, конечно же, само становление героя. Этот сюжет не просто так затёрт до дыр. Всё потому, что он работает. И работает безотказно. Покажи человека, каким мог быть читатель, а затем покажи, как этот человек становится таким, каким хотел бы стать сам читатель.
Крепкий позвоночник, позволяющий не сгибаться под тяжестью проблем: это ли не то, чем хотел бы обладать каждый. И пусть герою больно, пусть герою сложно, пусть он оказывается в травмоопасных ситуациях, он выходит из них одним куском. Он выходит если не победителем, то не проигравшим.
Разве не этого хотел бы каждый?
Что же до правдоподобности этого преображения, так оно на то и потребно, чтобы мы поверили, что оно так может работать.
Опять-таки, надо понимать, что существует теория, что читатель, дескать, должен ассоциировать себя с героем, и текст выше рассматривает книгу Романыча именно с данной позиции. Однако, мне эта позиция совершенно не близка. Я не ассоциирую себя с героем. Он – не я, и никогда мной не был. Он – это он. Иначе, поверьте мне, количество культурных продуктов, которые я способен потреблять, резко снизилось бы.
Теория контроля
Есть в психологии такая штука, как “теория контроля”. Она объясняет, отчего человек так старательно пытается найти справедливость там, где её быть не может, закономерности – где их искать не следует, и виноватых – среди жертв.
Просто человек любит контролировать свою жизнь.
И поступающую извне информацию о жизни других людей любой человек пропускает через фильтры контроля, предполагая, что “дерьмо может случиться и с ним самим”. Понимаю, что это звучит очень близко к идее о том, что читатель ассоциирует себя с героем, но это не совсем так. Ассоциация происходит только в ряде аспектов, касающихся так или иначе, самозащиты. Не более.
“Он” остаётся “он”, а не “я”.
Попытка найти рычаги контроля. Обезопасить себя.
Именно отсюда растут ноги у всевозможных читательских придирок в стиле “почему герой не сделал это или то”. И эти придирки не возникают, когда читатель отчётливо понимает, отчего всё произошло именно так, а не иначе.
Потому что герой – это “он”. Если рычаг контроля был в кадре, а автор объяснил, почему герой прошёл мимо, то всё окей.
Но как “теория контроля” помогает нам понять, чем хорош сюжет становления героя, особливо в данной конкретной ситуации?
Всё очень просто. Главгерой “Злобы” не только обретает власть над рычагами контроля. Он сам становится таким рычагом.
Он защищает других людей, пытается улучшить их жизнь. Он делает мир чуточку более справедливым в своём понимании этой самой справедливости. А “справедливость” – это “контроль”. Справедливый мир – это мир контролируемый, предсказуемый и, главное, безопасный. Все же хотят, чтобы их труд не был бесполезным? Все хотят, чтобы у них были перспективы? Все же любят, ну, знаете, не умирать?
Герой не просто получает возможность обеспечить это себе. Он приносит часть своих возможностей в жертву, чтобы обеспечить хотя бы тень этой возможности окружающим. Пусть не всему миру, пусть маленькой общине, которая его приютила.
Герой благодарен. Герой думает о других. Герой совершает бытовые подвиги не ради себя, а ради окружающих.
Получает ли он за это благодарность? Едва ли. Мир не таков. Ждёт он этой благодарности? Нет. Он отлично понимает, куда попал. Более того, кое-кто из персонажей, которых герой пытается не обременять, даже не узнает о том, какова роль в этом главного героя.
У него нет даже маски летучей мыши, чтобы хотя бы греть уши на благодарностях народа в сторону неизвестного мстителя. Герой вообще никак не имеет права подать знака о том, что он делает добро: я говорю о его попытках магически очистить окружающих от избытков тёмной магии и эмоций.
Но герой это делает. Осознанно. Целенаправленно. Раз за разом.
Порой даже огребая последствия в виде ухудшения ситуации от своей помощи.
Но восприятие текста с точки зрения теории контроля от этого не страдает. Потому что найти рычаг контроля и зацепиться за него читатель может. Даже более того, у него появляется возможность сопереживать персонажу не как “своей аватаре”, а как “рычагу контроля”. Как “аватаре новой вехи справедливости”. Ведь даже если читатель не может представить себя на месте этого неисправимого альтруиста, он всё ещё хочет, чтобы нечто подобное в мире существовало. Он хочет увидеть его восхождение. И даже более того: чересчур успешный эгоист с точки зрения теории контроля может напугать читателя. Заставить последнего желать герою краха.
Отсюда растут ноги у комментариев, про мерзких и противных героев. Не только из-за того, что читатель “не может себя представить таким”. А потому что читатель может не хотеть видеть успех чего-то подобного в мире, в котором он живёт. Это пугает.
Мы любим ненавидеть злодеев, зная, что они падут.
Концовка
Дмитрий Серебряков в своих советах молодому писателю указал: “да пребудет в конце первого тома ссылка сразу на второй, и сразу в читалку, ибо так хомяк не поймёт, что попал в бесплатный отрывок платной книги и не испугается.”
На деле, хоть мне и неприятна эстетически ссылка прямиком в художественной книге, но я вынужден признать, что совет толковый. Он ведь, помимо прочего, будет вести всяких любителей посещать пиратские сайты прямиком на АТ, в берлогу автора, что есть дело благое и правильное, даже если сам автор пока ещё не заслужил комстатус: надо же статистику как-то растить.
Также, несмотря на все удобства данного сайта, даже вот у меня нашлась пара человек, которые начали читать второй том, не ознакомившись с первым, просто потому, что запутались (я сейчас не о гражданах, которых я целенаправленно попросил почитать второй том в отрыве от начала истории). Так что, если какой залётный гражданин ознакомится с первой книгой, ему уже сразу будет ясно, что имеется продолжение.
Что? Вы полагали. что в концовке я буду разбирать концовку самой истории?
Ну, да, я тоже полагал, что в книге, позиционирующей себя, как роман, а не как томик ранобе, будет третий акт. Но его нет. Он перенесён во второй том. Сознательно.
Вот нагнетали-нагнетали нам всю книгу про лабиринт. По всем канонам в этот лабиринт стоило занырнуть в финале первого тома, но Романыч сказал “нет” и перенёс действо сие в том второй.
Могу сказать вам честно: я был оскорблён. Я, как и каждый отдельно взятый жителей XX и XXI века был воспитан на трёхактовой структуре. Мы так устроены. Мы впитали её с молоком матери. Ещё с античности истории строились по данной традиции, и с тех пор каноны просто обретали всё более и более внятные черты.
А потому, узрев книгу-инвалида, лишённую третьего акта, я потерял всякое желание дальше иметь дело с данным автором.
Конечно, понабегут громкие личности и скажут, что я старпёр, что таких, как я, единицы. Но давайте будем честны: никто не знает, сколько таких, как я, старпёров. Сколько из нас платёжеспособны. Скольких книга “отбрила” подобным ходом. Это просто поинт, который стоит понимать для всесторонней оценки ситуации. Меня подобный ход оскорбил. Я не люблю книг-инвалидов. И я не люблю настолько неприкрытые маркетинговые ходы.
Но, точно также я понимаю, почему это может сработать на других. Потому что все мы существуем в обществе, воспитанном на трёхактовой структуре. История в два акта без третьего, это как надкушенный бутерброд, который мы не доели. Это незакрытый гештальт. Мы хотим целостности. На самом деле, и я хочу целостности, но не получив её, я посчитал себя оскорблённым. А кто-то просто жмякнет по ссылке и пойдёт читать проду.
Покамест этот трюк работает. И он будет работать ещё некоторое время. Сколько? Год? Два? десять лет? Двадцать?
Он будет работать, пока не сменится культурное поле. Кое-кто из “особо успешных” громогласно объявляет двухактовые книги “будущим литературы”, но на деле это просто эксплойт “прошлого литературы”. Как только “будущее литературы” наступит, и все примут двухактовые книги, как норму, крюк перестанет работать.
Но пока этого не случилось. Потому, если вам кажется, что в вашем случае перемещение третьего акта первого тома во второй сработает и увеличит количество переходов с первой книги на вторую, то это целиком и полностью ваше право. Но вам же будет лучше, если бы будете осознавать все аспекты данного решения и понимать, что это не “умопомрачительный мегатрюк и будущее литературы”, а просто эксплойт культурного поля, причём крайне примитивный и наглый.
В конце концов, всем известно, что деньги не пахнут, из чего бы они ни были сделаны. Тот факт, что мне претит уродовать книгу, отрезая от неё треть и запихивая в продолжение, является исключительно следствием моих личных предпочтений. В этом мире не существует высшего закона, который карает любителей играть “не совсем чисто”. Это преступление исключительно против хорошего вкуса, а таковой законом не охраняется и воздаянием будет лишь фырканье снобов, вроде меня.
