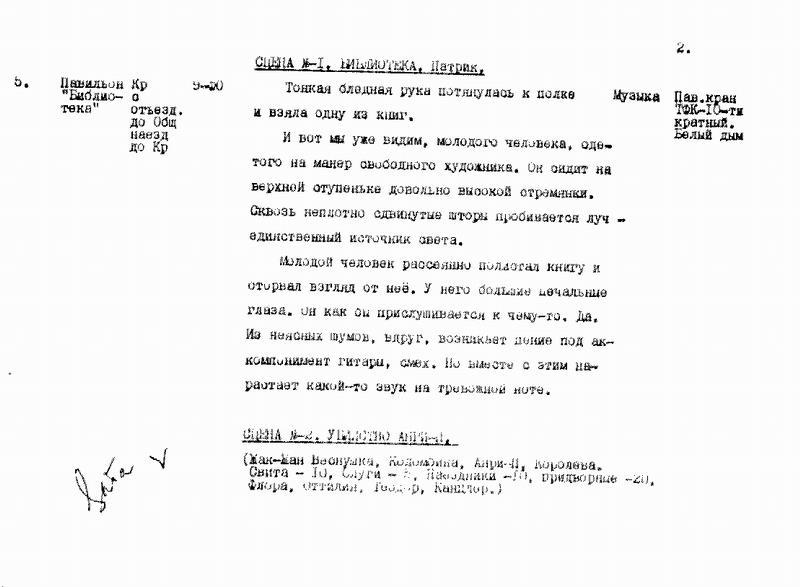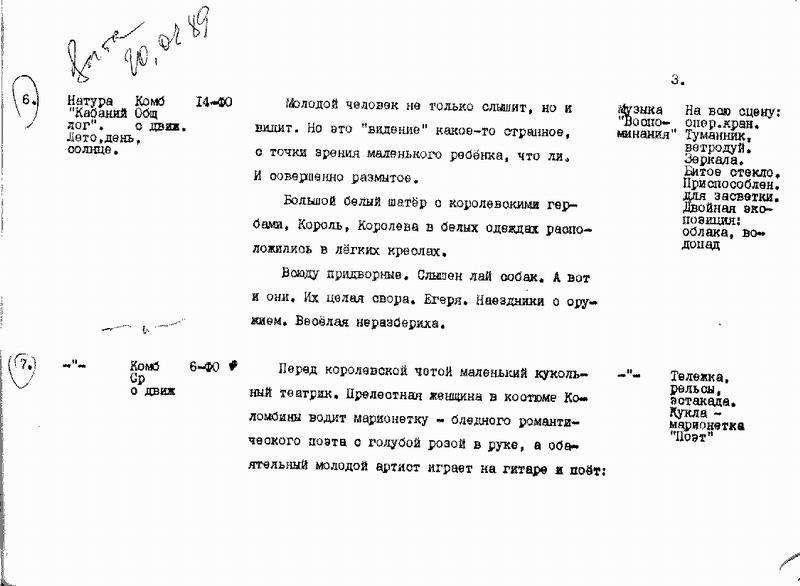«Показывать, а не рассказывать»
Автор: Татьяна БуглакДумаю, в последние годы все, кто так или иначе связан с литературой, особенно с сетевым её сегментом, слышали это выражение, а то и пытались применять его в работе. Да и в комментариях под книгами и в рецензиях частенько читаешь «вы не рассказывайте, а показывайте».
Меня это требование всегда удивляло. Литературное произведение всегда рассказывает – особенность у него такая, словами всё передаётся. Вот живопись или скульптура – показывают. Театр и кино – показывают. А книга – рассказывает.
Особенно интересно бывает, когда претензия «показывай, а не рассказывай» относится к одному из самых распространённых приёмов художественной литературы – рассказу очевидца или участника событий. Капризный и начитавшийся постов в инете читатель говорит «фи!», едва видит слово «расскажите». Нет, нужно, чтобы всё было в реальном времени, и показано. Но вот вам простой пример. Все знают «Графа Монте-Кристо» Дюма. Роман о мести, о предательстве и о любви. Популярен уже почти два века. А никто не обращал внимания, сколько там рассказов, вставных новелл? Я специально не стала открывать книгу, перечисляю по памяти. Кто хочет, может уточнить и дополнить список.
1. Рассказ аббата Фариа.
2. Вставная новелла о похищенной разбойниками девушке (рассказана Монте-Кристо).
3. Рассказ о разбойнике Вампе (рассказывал опять же граф).
4. Рассказ Кадрусса о доносе на Дантеса.
5. Рассказ Гайде о свое жизни.
6. Рассказ Бертуччо о кровной мести и приёмыше.
7. Рассказ об убийстве Вильфором-старшим предателя (письменный).
Семь(!) пространных рассказов, оформленных именно как рассказы. И это навскидку.
Берём другой роман – «Дети капитана Гранта». Его я читала вообще в детстве (надо бы перечитать). Что же там? А там как минимум рассказы Паганеля о том, как был у племени маори, и рассказ самого капитана Гранта.
Берём Конан Дойла. И… рассказ девушки в «Пёстрой ленте», рассказ о мормонах в «Этюде а багровых тонах», рассказ о событиях в Индии в «Знак четырёх».
Я специально взяла примеры из приключенческой классики. Эти книги известны всем, читаются миллионами людей до сих пор и бессчётное число раз экранизировались. Помешало ли то, что в книге идёт рассказ, представить происходящее? Нет, никому это не помешало. Как не помешало зачитываться «Робинзоном Крузо», «Островом сокровищ» или «Капитанской дочкой», в которых всё именно рассказывается. А есть ещё такая форма, как роман в письмах, и там всё исключительно рассказывается.
Часто претензия «показывай, а не рассказывай» удивительным образом сочетается с другой: «слишком много описаний (пейзажей, интерьеров, одежды)». Но ведь в этих моментах как раз и показывается то, что окружает героев. Почему же это не нравится читателям? Потому что «много слов, нужно действие», а описание можно сделать иллюстрацией, картой. А ничего, что иллюстрация не является литературным приёмом? Может, тогда вообще всё перенести в комиксы? Там и надписи не нужны. Только будет ли это книгой? Нет, это другой вид искусства.
Самое интересное, что когда в книге на самом деле автор показывает эмоции через жесты и поведение человека (это бывает нужно для достижения определённых художественных целей), читатель, требующий «показывай, а не рассказывай», не считывает эти эмоции и логику героя. Потому что к описанию жеста нужно добавить «нервно» или «ласково», а ещё лучше вставить предложение-два о том, что человек думает. Понимание жестов у каждого своё, а понимание поступков вообще зависит от того, «насколько кто испорчен». Да что там жесты! Простой пример: фразу «Он посадил мобиль и разложил своё кресло, чтобы поспать», один поймёт как «разложил кресло наподобие такого, как в самолётах», а другой как «разложил кресло-кровать». Потому что у каждого свои ассоциации с раскладывающимися креслами. И тут уж нужно описывать, рассказывать, чтобы у читателя не было неправильно прочтения текста. Ошибок в восприятии и так достаточно, чтобы увеличивать их бездумным «показыванием».
***
И вот вроде бы всё понятно. И есть литературные приёмы, и никогда не было претензий к этому «рассказывай». Откуда же взялось это требование? А из учебников для киносценаристов! Вот очень толковое и грамотное объяснение, почему в кино (в кино!) нужен именно этот приём (выделение моё – Т.Б.):
«Показывайте, а не рассказывайте!» Вот еще одна ошибка, которая часто встречается в сценариях новичков. Вы сможете эффективнее донести информацию о кризисе семейных отношений, если покажете, как муж провожает взглядом привлекательную девушку, когда они вместе с женой идут по улице, чем если вы вставите диалог на три страницы о том, как проходят их сеансы у семейного психолога. Фильмы — истории, рассказанные в картинках. Зачем что-то говорить, если можно показать? Это экономит столько времени и сил!
…Фактически кино предназначено для того, чтобы показать, что происходит, и поэтому мы должны получать информацию о героях из их поступков, а не из слов. … в хорошем кино — мы понимаем происходящее не благодаря диалогам, а за счет манеры исполнения и дальнейшего развития истории. … Вам стоит сконцентрироваться на происходящем сейчас, а не на том, что случилось еще до начала истории.
(Блейк Снайдер. Спасите котика! И другие секреты сценарного мастерства. Глава 7)
И советы Снайдера абсолютно верны! Для драматургии! Там свои законы, часто противоречащие законам художественной литературы. Там всё построено на том, что мы видим, на игре актёров, на их манере исполнения. И на самом деле там всё должно происходить здесь и сейчас.
Кто-то может сказать, что приёмы одного искусства заимствуются другим, и это нормально. Иногда да. Иногда терминология из драматургии заимствуется литературоведами, специалистами по теории литературы. Это естественный процесс. Но заимствуются некоторые, идеально подходящие термины, но не общая концепция.
Понимание, что на сцене всё должно происходить здесь и сейчас, было ещё у античных драматургов. Достаточно почитать древнегреческие комедии и трагедии, чтобы увидеть это. Не хотите античность – вспомните Шекспира. У него тоже всё происходит здесь и сейчас. Это норма драматургии. Но не художественной литературы. Эти два вида искусства разошлись тысячи лет назад, и скорее драматургия заимствует у художественной литературы и поэзии приёмы выразительности в передаче диалогов, красоту языка. Если вы вспомните пьесы Шекспира, то там почти нет ремарок о жестах, мимике героев, которые передавали бы эмоции, душевное состояние. Подразумевается, что основное заложено в диалоге, а актёр сам подбирает наиболее выразительные движения и мимику, интонации голоса. Вы никогда не сравнивали, как поставлены «Укрощение строптивой» у нас, в фильме с Касаткиной, и в США, в экранизации с Элизабет Тэйлор? Пьеса одна, но характеры Кэт совершенно разные! Вот почему в театре и кино нужно показывать – зритель это увидит. И режиссёр, актёры, костюмеры – соавторы пьесы.
***
В художественной литературе всё иначе. Там нужно не просто передать диалог и перечислить основные действия героев, но и передать словами абсолютно всё – окружающую обстановку, эмоции людей, а то и животных, мысли этих людей, интонации, с которыми они говорят, общий эмоциональный настрой, который в фильме передаётся цветом и музыкой. Тут невозможно ограничиться просто «показыванием». Да и сценарии сейчас этим не ограничиваются. И киноповести тоже, они приближены к литературному описанию. Вот вам пример. Отрывок из киноповести Георгия Полонского «Не покидай» и два листа рабочего сценария, по которому снимал эту сказку Леонид Нечаев (весь сценарий я выложила в своём паблике в ВК ).
Отрывки из киноповести (выделение моё – Т.Б.):
– … А все-таки еще одного такого я знал! В этой же самой Абидонии. Только он пацаненок был лет пяти, этот принц. И без конца терся возле отца моего, возле наших кукол... Петь, стихи декламировать мог до упаду – для поваров, для конюхов, для кого хотите. Они его заслушивались! Эх, Ваше Высочество... лучше и не вспоминать...
– Почему же? – светлые брови Пенапью встали "домиком".
– Потому что когда гибнут дети, тут уж всякие слова замирают... Черт, не хотел же я, на ночь глядя, – нет, все же выболтал!
– Позвольте... уж не был ли он сыном несчастного Анри Второго?
– О, так вы заглядывали в абидонскую историю? Даже слишком глубоко заглянули, Ваше Высочество! Покушение на Анри Второго и его семью было как раз там, где обчистили вас. "Кабаний Лог" называется. Так что молиться надо: "пьески" были страшно похожие, в одной декорации... только вам больше с развязкой повезло.
(…)
Дворцовая библиотека. Тусклым золотом мерцали корешки старинных фолиантов. Стрельчатые окна были зашторены, а свечей горело мало – меньше, пожалуй, чем необходимо единственному читателю, находящемуся здесь в этот час.
Этот молодой человек одет на манер свободного художника; он взгромоздился на довольно высокую лестницу: ему понадобились самые верхние книги, их уже стопка у него на коленях, и в одну из них он погружен. У него большие серые глаза и, похоже, они способны выразить многое, но чаще всего выражают, увы, печаль...
Впрочем, сейчас, когда он услышал чье-то насвистывание, глаза эти выразили такое, что описывать рискованно: не хочется касаться столь нежных материй обычными, стертыми и остывшими от старости словами...
И страницы сценария. Текстовая версия: подчёркнутые абзацы – пометки для оператора, световые эффекты, музыка. Выделения в самом тексте сделаны мной. Ниже приведены сканы оригинала. Обратите внимание, что в повести момент в «Кабаньем логу» описан до библиотеки, а в сценарии и фильме он показан как бы врезкой в сцену в библиотеке. И если в киноповести это дано в диалоге третьих лиц, то в сценарии описание отдельными кадрами-воспоминанием (всю сцену я не привожу, но понять приёмы можно и по отрывку).
Павильон - "Библиотека"
Кр о отъезд до общ наезд до Кр
музыка
Пав кран ТФК-10-тикратный. Белый дым
СЦЕНА 1. БИБЛИОТЕКА. ПАТРИК
Тонкая бледная рука потянулась к полке и взяла одну из книг.
И вот мы уже видим молодого человека, одетого на манер свободного художника. Он сидит на верхней ступеньке довольно высокой стремянки. Сквозь плотно задвинутые шторы пробивается луч – единственный источник света.
Молодой человек рассеянно полистал книгу и оторвал взгляд от неё. У него большие печальные глаза. Он как бы прислушивается к чему-то. Да. Из неясных шумов вдруг возникает пение под аккомпанемент гитары, смех. Но вместе с тем нарастает какой-то звук на тревожной ноте.
СЦЕНА №-2. (Не распознала написанное -- Т.Б.)
(Жан-Жак Веснушка, Коломбина. Анри II, королева. Свита - 10. Слуги (дальше перечисление персонажей не читается, плохой скан – Т.Б.)
Натура «Кабаний Общ лог». с движ. Лето, день, солнце.
Музыка «Воспоминания»
На всю сцену: опер.кран. Туманник, ветродуй. Зеркала. Битое стекло. Приспособл.для засветки.Двойная экспозиция: облака, водопад.
Молодой человек не только сидит, но и видит. Но это «видение» какое-то странное, с точки зрения маленького ребёнка, что ли. И совершенно размытое.
Большой белый шатёр с королевскими гербами, Король, Королева в белых одеждах расположились в лёгких креслах.
Всюду придворные. Слышен лай собак. А вот и они. Их целая свора. Егеря. Наездники с оружием. Весёлая неразбериха.
Видите, и в киноповести, по сути литературной версии сценария, и в самом сценарии есть чисто литературные приёмы описания происходящего: «пожалуй», «и вот», «как бы», «вдруг», «что ли», «а вот и они», «взгромоздился», и целый абзац о взгляде в первом примере. И особенно обратите внимание, что о событиях в «Кабаньем логе» в первом отрывке рассказывается, пусть и обрывочно. Но это рассказ, а не перечисление действий. Рассказ с эмоциональной составляющей рассказчика. Получается, что сценарий не может обойтись без литературного приёма, описания, рассказа даже в ремарках для режиссёра и оператора, а не только в диалогах.
***
Я не случайно взяла для примера книги Дюма, Верна и Дойля. Все читали эти произведения и все видели хотя бы по одной экранизации каждого из них. И как это сделано? Вспомните «Этюд в багровых тонах». В советской экранизации с Ливановым, Соломиным и Караченцевым в роли Хоупа это серия «Кровавая надпись». И можно сравнить, что пространный рассказ Хоупа о всём произошедшем, занимающий в повести половину объёма, сокращён до коротких ремарок Хоупа при допросе и кадров с показом того, о чём он рассказывает. То есть то, что в книге рассказано, и это интересно читать, это подробно описано, в фильме показано. Поведение героев, которые в книге описаны, в фильме переданы мимикой и интонациями голоса. Так что сразу становится понятно различие между «показывай» и «рассказывай» в разных видах искусства и обоснованность «показывай» исключительно для кино и театра, но не для литературы.
При этом я не совсем согласна с мнением уважаемых Олди, которые в статье «Как современные книги превращаются в кино» (на их странице на сайте это интервью есть в сборнике «Десять искушений писателя») говорили:
О.Л. Сколько раз вы читали в интернете: «Я не вижу картинку»? Читатель говорит: «Я читаю и не вижу картинку!» Какую же картинку ты хочешь, дорогой? Он хочет «кина». Он говорит: мне иллюстрации мешают, я героя себе уже представил. Почему? Потому что у читателя фильм уже вовсю идёт, и в одном-единственном варианте. А то, что «Три мушкетёра» были сняты во множестве вариантов и д’Артаньяна играли актёры от Бельмондо до Боярского… Ничего, что они разные?!
Д.Г. Отсюда, кстати, вытекает и уход от литературной образной описательности персонажей, от раскрытия характера двумя-тремя яркими чертами. Общее требование прямо противоположно: должна быть подробно описана внешность персонажа, степень небритости, костюм в деталях с указанием ткани, перстень, серьги… Именно в виде подробного описания, а не художественного образа.
Во многом они правы. Но всё-таки не во всём. Потому что любой читатель, за исключением слепых с рождения или врождённо не умеющих создавать зрительные образы (такая особенность работы мозга иногда бывает) видит происходящее, Насколько подробно – это зависит от многих причин. Но читатель представляет себе написанное. И тем более это видит сам автор. Не как фильм, а как участник или сторонний наблюдатель, но находящийся внутри событий. И не стоит, боясь скатиться в сценарий, полностью избегать «показывания». Подробные описания одежды, интерьеров и пейзажей – отличительная черта классической литературы. Но эти описания нужны не сами по себе, а для создания образа, для раскрытия характера. Бывает, они совершенно не требуются. И есть очень хорошие книги, в которых вообще нельзя понять, как выглядит главный герой (насколько помню, именно так в романе «Гордость и предубеждение» Джейн Остин – подробного описания Лиззи там нет). И это совершенно не мешает видеть и ощущать происходящее. А в самом начале «Войны и мира» даётся в прямом смысле слова кинематографичное описание Элен Безуховой и Пьера, а вот Андрей Болконский описан уже не настолько подробно, скорее упор делается на его характере, чем на одежде. И это тоже нормально и совершенно обоснованно. Всё нужно на своём месте и для своих целей. Главное, чтобы автор на самом деле не писал вместо книги сценарий боевика, аниме или тем более компьютерной игры. А если пишет – то пусть не называет это художественной литературой. Это тоже искусство, но не уж точнее не литературное, а гибрид текста с визуализацией.
***
Так что не нужно требовать от автора мифического «показывай». Это требование-пустышка, ничего не значащая фраза, не привязанная ни к одному литературному приёму. Ну или чётко напишите автору, что именно вы под этим подразумеваете. А то бывает довольно странно читать комментарии, что книга хорошая, характеры прописаны великолепно, пейзажи и интерьеры тоже, все действия и логика понятны, но есть одно замечание: «нужно показывать, а не рассказывать». Что показывать-то ещё?
Эту и другие статьи вы можете прочитать в моём сборнике "Окололитературное"