О майском чтении: танцующими котами, зато без спойлеров
Автор: К.А.Терина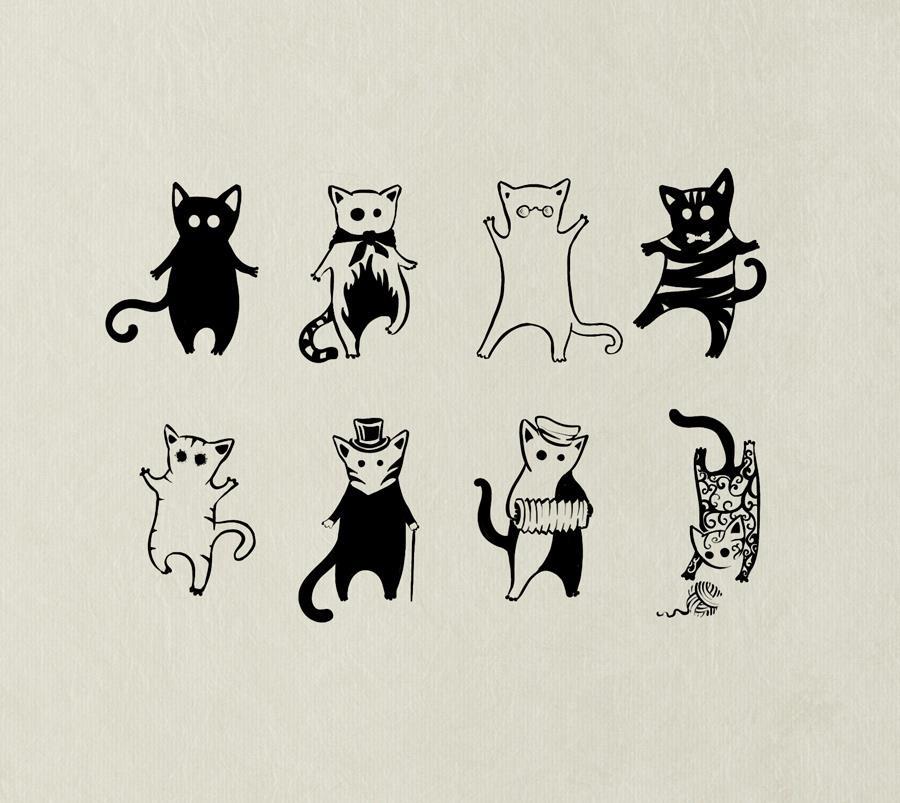
1. «Partials» by Dan Wells
Жалкие остатки человечества окопались на Лонг-Айленде и пытаются заново выстроить цивилизацию, но шансов всё меньше: за двенадцать лет не выжил ни один младенец.
Вот в некоторых столовых тоже, наверное, так: всё строго по рецепту, старательно и нудно, с секундомером над плитой, но вместо борща получается нечто цвета борща. Или баклажаны, например. Они в себе несут ДНК чуда, причём самораспаковывающуюся (не уверена, что все «вы» и «ва» здесь на месте) — их же невозможно испортить. Но кому-то удаётся.
В «Partials» есть, кажется, все необходимые ингредиенты, но результат даже не ужасно скучный, а просто скучный.
2. «Пищеблок», Алексей Иванов
Вампиры в пионерском лагере. Поскольку пищевые метафоры я неосмотрительно растратила выше, тут будет домино. Для меня всё работало почти до конца — благодаря точным деталям, не совсем таким, какие были в моём лагерном детстве, но из-за своей конкретности — узнаваемым, как, знаете, какой-то случайный и мимолётный запах обрушивает волну домино-воспоминаний. Но ближе к кульминации что-то не складывается, поворачивает не туда или не так — и рушится уже домино достоверности. Финал как и весь сюжет утешительно-предсказуем, в духе пионерских страшилок, которые рассказывают друг другу герои по вечерам, но дорога к этому финалу — бумажный мост над картонной пропастью.
3. «Зов Ктулху», Говард Лавкрафт
Мокьюментари и ктулху. Вот я упрекаю Лавкрафта в приблизительности и дженериковости, а сама не могу придумать каких-то новых слов, чтобы рассказать об этой повести. Разве что можно добавить к сказанному в прошлый раз, что здесь ещё ярче расцветает лавкрафтовский расизм, очень поучительное чтение.
4. «Когда я был фотографом», Надар
Мемуары великого фотографа. Полёты на воздушных шарах, первая аэрография и первый опыт съёмки под землёй, голубиная почта в осаждённом Париже — да и вообще Париж — улицы, набережные, катакомбы, барабаны, майские жуки, су, сантимы и лиарды. Престарелый Надар многословен, остроумен и трогательно самодоволен. Впрочем, фотографии, занимающие примерно четверть книги, мне показались самыми интересными — можно рассматривать часами.
5. «Later» by Stephen King
Мальчик разговаривает с мертвецами, и они не могут ему лгать. Стивену Кингу я прощу всё за одно то, что его тексты я читаю на английском почти как на родном, могу расслышать клёвый голос рассказчика и утонуть в истории, забыв о словах и буквах. Ещё Кингу очень удаются персонажи-маяки, на свет которых идут его герои и хочется идти мне. Тут, впрочем, тьма не очень страшная, как ни напоминает рассказчик, что это хоррор. История в целом — как будто какой-то эксперимент Кинга над читателем, но я неудачный испытуемый, со мной, кажется, не сработало.
6. «Рудин», Иван Тургенев
Повесть о непростой судьбе асексуала в России XIX века.
Дальше я к этому уже привыкла, а тут ещё удивлялась: слово «возразил» Тургенев использует в значении «ответил», отчего диалоги приобретают особую прелесть.
7. «Постоялый двор», Иван Тургенев
Повесть о том, что и полтора столетия назад психопату жилось значительно приятнее, чем обыкновенному человеку с эмпатией и сомнениями.
Одного из главных героев зовут Наум Иванов, и как раз когда я слушала эту вещь, случайно встретила, представьте, Ивана Наумова в замечательном баре «Андердог», но забыла рассказать ему про такое удивительно совпадение. Вот рассказываю!
8. «Стража! Стража!», Терри Пратчетт
Стража. Стража. Дракон. Пратчетт гений. Когда мой английский вырастет, will spread its wings and will take to the sky, я непременно перечитаю всего Пратчетта, но пока — слушаю русские переводы в исполнении неподражаемого Александра Клюквина.
