Цикл «Помещик» Михаила Ланцова
Автор: Бескаравайный СтаниславФантаст-писец, невольник проды...
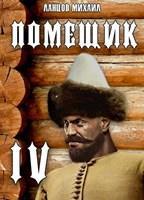
Михаил Ланцов весьма опытен в попаданческом жанре — на Автортудее у него почти сорок книг, и тормозить он явно не собирается. Но вот решил автор не посылать Сталина в Маньчжурию 1905-го года, не подселять персонажа в хмурого Николая ІІ, а отряхнул с ног своих жажду тотальных побед, собрался, преисполнился скромности, и вот можно оценить первые четыре книги цикла.
Плюсы:
- герой не совсем попаданец, а скорее путешественник во времени — переселение в тело далекого предка дает шанс спастись от смертельного недуга, причем есть пара лет на вдумчивую подготовку. Можно и язык выучить, и технологии, и подробности эпохи во всех деталях запомнить. В этом смысле герой на "ты" с получением краски, с ковкой, с конной ездой. А кроме технических новинок можно ведь и стихи повспоминать и даже поговорки;
- герой попадает не в царя-короля, не в генсека какого, а буквально в сироту — только что, при осаде Тулы, татары убили отца. Начинать придется не из крестьян, но вот буквально из не-воинов. Чтобы полноценным дворянином стать, юнцу надо поверстаться — в доспехах на смотр выехать. А купить их не на что.
- автор выключил опцию "легкая и быстрая победа в любой ситуации", а так же опцию "всеведение героя". Значительная часть событий, даже тех, в которых участвует Андрей, идет без его полного понимания ситуации, да еще и с периодическими "минусами" для протагониста. В этом смысле тульские воевода из первого тома "Помещика" — просто великолепен. Многорукий коррупционер, причем с казной-то он аккуратно, даже нежно, а людей вокруг разводит — только так.
- получилось показать не просто изменение статуса самого попаданца, но и то, как менялось его восприятие современниками. От "что-то ты странным стал" до идеи воскресшего Всеслава Брячеславича, и попыток как-то совместить этот образ с христианскими догматами. Находка автора: идея того, что Игнатий Лойола поддержит идею воскрешения, потому что "столь неоднозначная персона" не может быть возвращена из рая или поднят из ада, а лишь из чистилища. Каковое отсутствует в православии, а значит это воскрешение возможно использовать в пропаганде католичества :)
- автор добросовестно прочитал кучу исторических материалов по периоду Ивана Грозного, начиная от бытовых и завершая глобально-политическими. И лучше всего это проявилось в его понимании Судьбищенской битвы, как относительно периферийной, когда под рукой Шереметьева не набралось и трех тысяч человек. В то время как википедическая статья дает какие-то адские цифры :) Кроме того, герой добросовестно реализует попаданческо-прогрессорскую программу, и тут же выясняется, что не все надо брать из будущего. В прошлом ведь куча позабытых технологий. который можно реализовать здесь и сейчас, в тульских лесах, буквально силами дюжины человек
- соблюдается правило "одна книга — один год". Это позволяет автору не тонуть в победных сводках, которые ведь можно за одну книгу на двадцать лет вперед рассказать, а как-то добавлять в текст и личной жизни героя, и хозяйственных проблем его поместья.
- динамизм, динамизм и еще раз динамизм повествования.
Минусы:
- опции "лютая пруха" и "легкая развеска лапши на уши" отключены так и не были. Герою везет. Да, периодически его обирают, ему серьезно достается, но удача всегда при нём. И еще он легко и изящно умеет задурить людям головы, произвести впечатление и развести, индокринировать и вдохновить.
- любовь к высокому общественному положению своего персонажа не отпускает автора. Потому в конце четвертой книги не только сам Иван Грозный, но и некоторая часть рюриковичей признает его ровней. И это при том, что автор показал, что царь отлично понимал всю опасность такого действия... Да, автор периодически берет себя в руки, оттягивает героя за фалды невидимого фрака, потому о его родственном статусе не объявлено (была закрытая попойка, где его признали своим, просто в чужом теле), но вот пруха — и герой становится князем Священноримской империи. Как? Император Карл из дипломатических соображений заочной торговли с Грозным присваивает ему титул графа Триполи. Таким образом подпольная кликуха "князь" получает законное оформление. "Капитан" Алатристе нервно курит в углу...
- автор гонит текст. Каждые несколько дней продолжение, продолжение, снова продолжение. Из-за этого процент очепятных косяков иногда подскакивает до слишком больших значений. Иногда — автор слишком увлекается историческими справками и читатели в комментариях пишут, что это похоже на википедические статьи. То есть черновик сюжета явно продуман заранее, но необходимость сегодня и сейчас дать текст — она видна даже слепому :(((
- наконец, сам объем очередной книги. Автор уже не первый цикл строго держится правила: три части по десять глав в каждой с прологом и эпилогом. Главы не самые большие. В результате не происходит усложнения интриги, не растет сложность сюжетных сплетений. К чему приводит "стандарт толщины"? Возьмем вотчину героя. В четвертой книге там уже человек триста жило. А разборки внутренние никак не отражены. Герой просто озаботился каким-то количеством управленцев среднего звена и типа их подготовил :( Но кадровое устройство вотчины штука важнейшая, и даже если в его отсутствие делами ведает жена, которой можно доверять – нужна система негласного контроля, стукачества или как её назвать... Словом, не зря у Роулинг каждый следующий роман о Гарри Поттере был больше предыдущего, ой не зря...
Имхо, в идеальном попаданческом тексте одновременно разворачиваются три процесса: а) герой реализует тот потенциал, что дала ему разница эпох, б) герой сам развивается, как личность, в чем-то пересматривает свои взгляды на жизнь, в) остальной мир притирается, приспосабливается к герою.
В этих книгах отлично реализован первый пункт, с долей остроумия, хотя не без проблем — третий. А второй не виден даже под микроскопом. В авторском тексте герой как именовался в третьем лице "парень", так и продолжает именоваться.
Итого: с одной стороны, это типичнейший образчик попаданчества, когда ощущение победы – важнейшее из всех прочих ощущений. Герой обречен побеждать и превозмогать, а обоснования очередной виктории автор напишет в паре абзацев. С другой – есть и неожиданные сюжетные повороты, и сложные персонажи, и в конце четвертой книги у героя, который стал тульским воеводой, еще довольно много дел. Я бы даже сказал – ему Белгородскую засечную черту надо строить, хотя сил и средств на это недостает категорически…
Словом, виден прогресс автора и развитие жанра.
