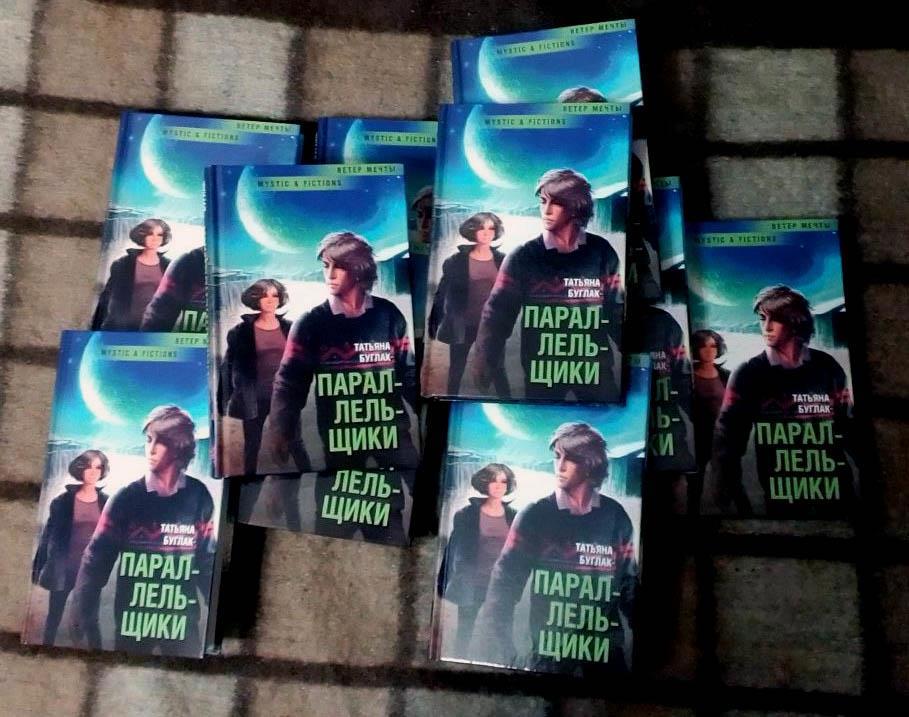Жизнь, переходящая в книгу
Автор: Татьяна БуглакПосле выхода из печати «Параллельщиков» на нескольких сайтах появились отзывы, объединённые одной особенностью — читатели говорят, что: а) в книге слишком много национальностей, это нереально, сделано непонятно зачем и вообще выглядит ненужным; б) что основные герои слишком правильные, и вообще таких дружбы и взаимопомощи в жизни нет, это утопия, а то и «влажные мечты» (причём этот термин употребляется совершенно неверно, в книге нет не то что эротики, даже любовной романтики); в) слишком нереально описана Мария, и чувствуется явная неприязнь к москвичам, показанным шаблонными выскочками; г) наш мир описан слишком отрицательно, Ната же просто ограниченная дурочка, не умеющая нормально общаться с обычными людьми. Там было много ещё чего, но то касается именно взглядов людей на фантастику, а они, эти взгляды, у каждого свои. Но претензии к описанию людей меня зацепили настолько, что решила написать этот пост. Нет, он не о прототипах (кроме Марии ни у одного человека нет прототипа, все индивидуальности ещё те), он касается не только «Параллельщиков», но и «Три "Л"», и вообще всего, что я пишу и собираюсь писать.
Национальности
Я практически всю жизнь прожила в Нижневартовске. Это город молодой, ему ещё нет полувека, и за эти несколько десятилетий он вырос с двадцати до трёхсот с «хвостиком» тысяч человек. В нём сейчас больше ста национальностей. Так вот, я просто перечислю национальности наших соседей по посёлку: русские, украинцы (в том числе западяне, как их называют), татары (волжские, казанские, сибирские), башкиры, удмурты, мордва, чуваши, пермяки, азербайджанцы, армяне, грузины, дагестанцы, таджики, узбеки, калмыки, поляки и немцы. Это в посёлке с населением в несколько сот человек. В городе же больше ста национальностей, говорят, одно время негры жили, работавшие на буровых. О чехах даже фильм есть — «Трасса»; мой отец с чехами в начале 1980-х работал. В моём реконструкторском клубе на девять человек было четыре русских, два татарина, башкирка, молдаван и поляк. В клубе реконструкции Древней Руси, заметьте. И теперь мне говорят, что я пишу неправду? Что это слишком «притянуто за уши»? Ну-ну! Для меня такая смесь — самое нормальное, что вообще может быть. А вот почему претензии высказывают москвичи, живущие в городе, где национальностей в несколько раз больше — это уже вопрос, касающийся, видимо, пункта «в».
Дружба и взаимопомощь
Я этого момента не помню, маленькая была, а родители вспоминают иногда. В первый же день, как мы приехали в посёлок, совершенно незнакомый человек принёс нам насовсем обогреватель: «У вас ребёнок, вам нужнее». Остальные случаи уже на моей памяти и с моим участием. Отец у меня рыбак. Нет, не тот, что с удочкой и двумя мальками в банке, а тот, что с сетями, лодкой-моторкой и ваннами пойманной рыбы. Реально ванна оцинкованная каждый раз. Щуки, сырки, караси и иногда стерлядка (на неё разрешение нужно было, так что не каждый раз, но бывала). Что делает человек на «большой земле», наловив столько рыбы? Идёт продавать. Что делали у нас? Посылали меня с кульками рыбы (а караси такие, что один на большую сковородку не поместится) разносить улов по соседям. Просто так. Человек мог отказаться — это принималось с пониманием, но если бы он предложил за рыбу деньги — это восприняли бы как оскорбление. Точно так же уже нам приносили медвежатину и лосятину (по медвежатине скучаю, а вот медвежий жир — кошмар моего детства, вечно им от простуды пичкали). Ладно, охота и рыбалка — это хобби, скажете вы, и вспомните о том, что продаётся в магазинах. Извольте: два ящика свежего, но помятого московского «эскимо», того самого, в бумажной упаковке, настоящего. Два часа ночи, стук в окно, и папин знакомый затаскивает эти ящики в тамбур. Он, знакомый, хозяин ларька, и посчитал, что отдать помятое мороженое знакомым проще, чем продавать. И ночью мы идём по соседям с вопросом: «Вам мороженое нужно?» Это нормальная ситуация. О том, чтобы просто раздавать почему-то не подошедшие вещи, обычно детскую одежду, я вообще молчу! Более того, при переездах до сих пор отдают друзьям бытовую технику и даже компьютеры. Не за деньги, а просто так. Не все, цивилизация уже давно добралась до Вартовска, и жлобов там всё больше. Но старожилы — да.
Дружба среди моего поколения уже не так ценится, да. Тряпки, деньги и престиж часто становятся важнее: «своя рубаха ближе к телу». А вот моему отцу до сих пор звонят те, с кем он работал тридцать лет назад. Я о таком могу только мечтать, отец же — знает. Да и так — вартовские ищут друг друга, даже вернувшись на «большую землю», это на самом деле свой, отдельный мир, своё мировоззрение. То, какое описано в советской фантастике: пусть и не особо богатый, но весёлый и светлый коммунизм духа. Библиотеки в тысячи книг у простых рабочих, пианино, телескоп, в который смотрела вся окрестная детвора. Нет, сволочи и скоты были и там, и я могу по фамилиям назвать алкашей, воров, наркоманов. Даже один неудачливый насильник был, с которого потешалась даже сама почти пострадавшая. Только вот несколько раз судимый вечный алкаш дал мне в детстве очень хороший урок. Когда его собутыльник начал материться на улице, дядя Вася, будучи уже в состоянии «бревна стоячего», сразу одёрнул: «Тут дети, заткнись». В посёлке не презирали ни его, ни других алкашей, а вот семью, выискивавшую способы хоть немного, но нажиться на соседях (причём семья та была по современным меркам вполне нормальной, а не жлобской) презирал весь посёлок. Нет, все отлично понимали, что такое «моё». Но это «моё» не закрывало людям окружающее, не превращало соседей в ресурс.
И последнее. Это уже не моё воспоминание, а одного случайного знакомого из Вартовска.
Ярослав Евсеенко: Да, и напишите обязательно, каждый кто тогда встречал прохожего на дороге и видел пятна белые на щеках, всегда предупреждал, чтоб растирали. И если ты зимой сильно обмерз, выходи на проезжую часть и маши рукой, первая же машина тебя подберет и подвезет, насколько по пути. Безвозмездно. Особенно если подросток. Сам видел, сам так попадал не раз.
Мария
Это единственный персонаж, почти полностью списанный с натуры, правда, с двух людей — москвички и петербурженки. Петербурженка была из семьи потомственной профессуры, её род восходил к XVIII веку, а по легендам вообще к какому-то мелкому князю времён Дмитрия Донского, что ли. За XVIII век ручаюсь, проверяла из интереса. Так вот, она не выносила евреев, узбеков и таджиков, довольно скептически относилась к татарам и башкирам, а иногда в её речи проскальзывало определение рабочих как «маргиналов». Она реально не приняла бы никакой помощи от человека с азиатскими корнями. Москвичка не с такой древней историей, но считала себя «настоящей интеллигенткой», восхищалась классикой литературы и живописи (при этом на самом деле в истории искусства разбиралась не очень, а о Помпеях, к примеру, вообще ничего не знала), и была правильной православной. В её речи постоянно проскальзывало: «Он хороший человек, прихожанин».
Нет, я не говорю, что такие только столичные жители, да и в книге этого не утверждается. Есть у меня точно такие же знакомые из провинции, причём из разных городов. Но в провинции нет «потомственной интеллигенции»:) Зато есть провинциальные снобы. И ещё в провинции очень любят учить священников, как жить. А теперь и неприязнь к другим национальностям растёт, и это мне дико.
Наша действительность
Только несколько зарисовок из жизни. Не говорю, что они стали единственной нормой, но замечаю такое всё чаще.
Недавно уже писала о том, как молодой парень просто так ударил на улице пожилую женщину. Раньше его бы родители пороли так, что он неделю на животе бы спал, сейчас же это «неприятный инцидент». И причины его очень хорошо видны. Буквально вчера в автобусе женщина потребовала от мужчины освободить место… не для неё, а для пятилетней внучки: «Вы уже взрослый, а ей сесть надо». В прошлом году то же самое требование высказали моему отцу, причём ещё более грубо: «Вам и так жить мало осталось, а мальчику всего три года». И такое осознанное воспитание эгоистов с каждым днём всё виднее. Попробуй сделать замечание — как минимум наорут. Меня же на практике мои ученики вообще пинали, и слова нельзя было сказать, потому что это «нарушение прав ребёнка». И цитата из песни, приведённая мной в книге: «Твой мир красив и светел, но мне совсем не интересен», и дальше о том, как хорошо трахаться, — реальность, а не моя выдумка.
Дружба. Моя знакомая заболела, недели три не могла выйти из дома, а продукты-то нужно покупать. Позвонила подруге, которая уже несколько лет при встрече на всю улицу орала, что сделает для знакомой всё, что та попросит. Работала эта подруга в торговом центре в 10 минутах ходьбы от дома знакомой. Услышав просьбу, подруга уверила, что да, конечно, только не сегодня, а завтра. «Завтраками» она мою знакомую кормила неделю, отговариваясь тем, что у неё ребёнок, работа, стирка и так далее, потом исчезла. Через два дня позвонила: «Привет, сегодня в кино идти не с кем, ты пойдёшь?» Знаю я об этом не понаслышке, потому что лично привозила продукты знакомой, и слышала этот разговор. И ту «подругу» знаю.
И последний случай, фраза из которого вошла уже в «Три "Л"». Года два назад мне с другого конца страны дозвонилась знакомая. Мы с ней не дружили, просто знакомы по историческому фестивалю и иногда переписывались. У знакомой была последняя стадия рака, жила она одна, и я одно время помогала ей собирать деньги на лечение. Так вот, дозвонилась она и попросила вызвать хоть кого-нибудь из её списка друзей в ВК, чтобы приехали и открыли квартиру: знакомую парализовало, она даже с пола встать не могла. Знаете, сколько я звонила? Двое суток! Я писала и звонила её знакомым, но ответ был один: «Да задолбала она уже, у меня дети/внуки/огород». Я обратилась через своих знакомых к редактору местной новостной ленты, попросила, чтобы хоть кто подъехал, дверь открыл — тишина. Я дозвонилась в полицию того города, ответ (как раз и вошедший в книгу): «Чего вы волнуетесь, если она умрёт без родных, похоронят за государственный счёт». Двое суток человек лежал в квартире и ждал помощи. Мне удалось связаться с её знакомым, находившимся в командировке в другой стране, тот позвонил слесарю, дверь открыли, и мы с моим другом из третьего уже города, причём не знавшим эту женщину, но реально переживавшим, единственным из всех, кто помог, искали и оплачивали сиделку, пока знакомую не забрали в больницу. Она вскоре умерла. Мы двое, находящиеся за тысячи километров от этой женщины, почти не зная её, помогали, а её друзья — нет. Кстати, через месяц мне посыпались в личку письма от этих «друзей»: «Вы не знаете, где её похоронили?» Нет, не знаю! А вас вообще знать не хочу!
Вот такие зарисовки к книгам. Реальные случаи, только без имён. Причём история с «уступите девочке место» произошла аккурат тогда, когда я ехала на почту за авторскими.